Сергей Тетерин о том, как он стал медиахудожником, когда на Урале еще никто не знал, что это такое
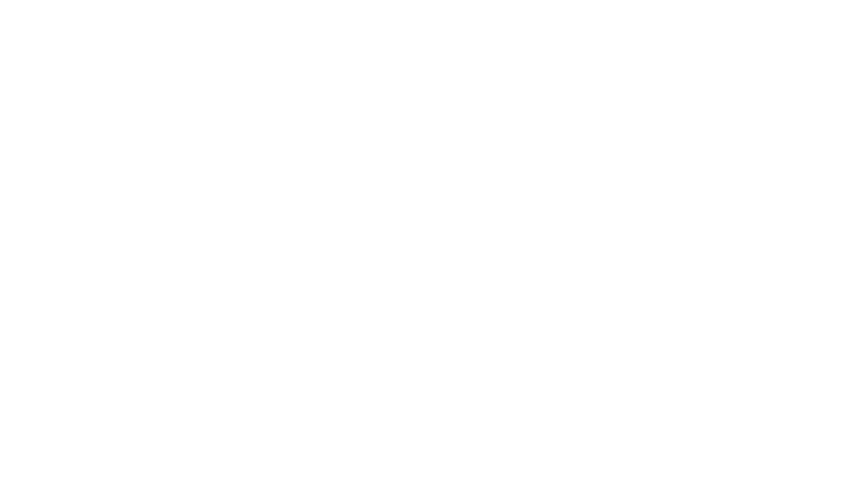
Сегодня мы делимся с вами интервью с медиахудожником и архивистом медиаискусства в лаборатории CYLAND Сергеем Тетериным, проведенным для пополнения Открытой базы данных междисциплинарного искусства в России (МИР). Сергей поделился воспоминаниями о медиаэкспериментах на заре русского Интернета в эпоху пейджеров и dial-up модемов, о тернистом пути медиахудожника из Москвы в провинцию и затем напрямую в Европу, рассказал о сотрудничестве с Дмитрием Приговым и Маратом Гельманом, о судьбах “Киномясорубки” и “Поэтофона”. Читайте далее о становлении Сергея в качестве медиахудожника, его текущей деятельности архивиста и о том, что происходит с современным искусством, если оно не попадает в музейные и частные коллекции.
МИР: Вы претерпели множество профессиональных метаморфоз: от филолога, от литератора к копирайтеру, продюсеру на радио и телевидении, виджею и, наконец, художнику, куратору и архивисту медиаискусства. Как происходили эти метаморфозы, что заставляло или, может быть, способствовало смене направления Вашей профессиональной деятельности?
Вы совершенно точно подметили особенность моего характера и моей личной истории. Наверное, все ж таки первопричиной является моя человеческая природа: наверное, я такой человек, которому одной жизни прожить мало, и который хочет успеть за свои сколько-то десятков лет прожить три или даже четыре варианта жизни, причём достаточно разные.
Когда мне было лет 30-40, мне казалось, что существует цикл сроком примерно 8 лет, после которого мне страшно надоедает то, чем я занимаюсь, и хочется заняться чем-то другим. После школы я мечтал быть литератором, “человеком слова”, тем кто способен очаровывать литературными дарованиями. Потом мне это страшно надоело, хотя какое-то количество интересно прожитых лет и приключений за этим стоит. Я пошел к художникам, в современное искусство. Эта стадия у меня затянулась, из современного искусства я до сих пор так и не выпал. Другое дело, что внутри него я уже переживаю не первую жизнь, поскольку моя самая первая – героическая – стадия началась году в 1998-м и закончилась примерно в 2010-м.
Когда мне было лет 30-40, мне казалось, что существует цикл сроком примерно 8 лет, после которого мне страшно надоедает то, чем я занимаюсь, и хочется заняться чем-то другим. После школы я мечтал быть литератором, “человеком слова”, тем кто способен очаровывать литературными дарованиями. Потом мне это страшно надоело, хотя какое-то количество интересно прожитых лет и приключений за этим стоит. Я пошел к художникам, в современное искусство. Эта стадия у меня затянулась, из современного искусства я до сих пор так и не выпал. Другое дело, что внутри него я уже переживаю не первую жизнь, поскольку моя самая первая – героическая – стадия началась году в 1998-м и закончилась примерно в 2010-м.
МИР: Почему “героическая”?
Этот этап моей жизни я сам для себя называю революционным, в том плане, что я был художником, который реагировал на какие-то революционные изменения вокруг себя, в мире, связанные не с социумом, а с информационно-технологической стороной жизни. Я имею в виду бурное развитие информационных технологий во второй половине 1990-х годов и будоражащее умы в начале нулевых. Приблизительно к 2010 году все эти инновации, которые воспевал еще Маршалл Маклюэн [Ключевые работы канадского исследователя роли средств коммуникации в культуре изданы на русском языке: Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2007; Маклюэн М., Фиоре К. Война и мир в глобальной деревне. М.: АСТ, Астрель, 2012. - Прим. МИР], и которые лично меня очень волновали, не то чтобы стали исчезать: они стали обыденностью, прозой жизни. То, что раньше было удивительным – в сфере интернета, в сфере коммуникаций, новых средств связи – к 2010 году прочно вошло в быт, в интернет пришли народные массы, и всё то, что раньше виделось как некое новейшее интеллектуальное искусство, отныне стало технологическим лубком. Соответственно, этот этап закончился.
МИР: Настало время собирать камни?
Сейчас я работаю уже в международной организации художников CYLAND, и меня больше волнуют вопросы архивирования, но в нестандартном широком понимании этого слова. Меня интересует будущее. То есть та аудитория в будущем, для которой мы что-то можем сделать сейчас. Я стараюсь помочь художникам, с которыми я сотрудничаю, создавать информационные сгустки, капсулы информации о самих себе, которые пережили бы, скажем, 10, 20, а то и 40 лет и были бы интересными для изучения именно в будущем.

Анна Франц и CYLAND MediaArtLab. Медиа инсталляция. Из серии «Дело случая», 2019
МИР: Вы капсулируете время и отправляете в будущее?
Нет, я не капсулирую время. Это не то, как Энди Уорхол собирал в коробки какие-то предметы, а потом надолго ставил в шкаф, и через 30 лет это продавалось за миллион долларов, нет.
Если говорить практически, мы в CYLAND’е пытаемся создать подход и метод, по которому можно работать с художниками для того, чтобы авторы сами позаботились о том, какая память о них будет “разархивирована” через, скажем, 30 или 40 лет - совершенно другими людьми, когда будут уже другие технологии, другое время, другие требования.
Это, в общем-то, очень творческая работа, и здесь очень много еще неисследованного. В практическом смысле, я собираю архивы вместе с художниками, и мы пытаемся сделать их лучше. Мы готовим специальные видео-интервью по определенному плану, собираем обязательные вещи, которые необходимо оставить для будущего. Потом очень много размышлений тратится на принятие решений о том, какой это должен быть формат.
МИР: Вы имеете в виду формат, который с течением технического прогресса как можно более долго будет оставаться воспроизводимым?
Приведу пример. В связи с этой информационно-технической эволюцией лично я пережил немало разочарований. Когда я жил в Перми 15 лет назад, там был специализированный магазин “Райтер”, где продавались диски: CD-ROMы, DVD-ROMы разных марок, подороже, подешевле, китайские и с какими-то очень такими внушительными названиями компаний, производивших эти диски. Консультанты всегда утверждали, что, мол, компакт-диски – новые технологии, смело записывайте информацию, срок хранения не менее 100 лет. У меня было множество таких специальных шпинделей, на которых хранились диски, и большая часть тех дисков не смогла пережить и 10 лет. Много пропало информации которая была мне дорога. Понимаете, это все оказалось настолько хлипким, как Муми-Тролли говорили: “Гамак-то у вас бренный”, – настолько быстро это все истлело, я имею в виду, компакт-диск именно как носитель информации. Сейчас, даже если у вас есть CD-ROM, чтобы прочитать диски 2005 года, не факт, что эти диски можно будет воспроизвести. А с другой стороны, например, торренты демонстрируют завидную живучесть. Например, портал Rutracker озабочен этим вопросом, и у них есть специальная инициативная группа хранителей, которые заботятся о том, чтобы редкие культурные артефакты переживали десятилетия, даже с учетом того, что нет, например, ни одного желающего “раздавать" какую-нибудь редкую книгу, изданную в России в XVIII веке. Именно сейчас мне это очень интересно.
МИР: Помимо того, что перемены были для Вас органической необходимостью, возникали ли внешние импульсы к поворотам на профессиональном пути? Например, в воспоминаниях на своем сайте teterin.ru Вы упомянули, что однажды путешествовали на поезде из Перми в Москву на первый фестиваль сетевого искусства Да-Да-Net, и в поезде за 22 часа прочли сборник и сошли с перрона медиа-художником.
Да, так оно примерно и было: вот я был специалистом по рекламе, проехался на поезде, подумал о своей жизни и вылез из поезда медиа-художником. Там ведь уникальная обстановка передвижного “ретрита”, когда в застенках купе у тебя действительно есть возможность что-то обдумать и воспринять, что в обычной, полной соблазнов, свободной жизни ты не можешь себя заставить прочитать. New Media Logia как раз и был таким сборником. Действительно, эта книга оказала на меня революционное влияние. С другой стороны, может быть, она меня просто сбалансировала: подсказала то, чего я хотел раньше, не осознавая. Даже будучи “литератором”, я всегда был склонен не просто к тому, чтобы написать стихотворение, или прочитать что-то, или придумать какое-нибудь яркое выражение, то есть, блеснуть словом, но я всегда стремился связать это с техникой. Помню как в 1980-е годы, мне отчаянно хотелось каждое стихотворение записывать на автоответчик и в таком виде показывать его людям.
МИР: Откуда это стремление появилось? У Вас, может быть, кто-то в семье увлекается технологиями?
Совершенно нет, если вы так глубоко копаете в биографию, мои родители – геологи, и я вырос в микрорайоне Нагорный, который в те времена был еще поселком. Наверное, это заслуга того, что я с детства был книгочеем и прочитал огромное количество так называемой научной фантастики, и зарубежной, и советской. Я считаю, что именно научная фантастика развила мое воображение в сторону технологий. То есть, это, конечно, воспитание советского ребенка. Когда он читает советскую или зарубежную фантастику, Шекли, предположим, – это стимулирует его саморазвитие и интерес к технике, к нестандартному использованию техники.
МИР: Была ли у Вас склонность к точным наукам?
Да, была такая склонность, просто я не понимал, что с этим делать. Мне нравились и поэты как модель поведения, и одновременно нравилась техника, и была дилемма, когда я заканчивал школу. С одной стороны, я побеждал на олимпиадах по математике, но с другой, моя учительница по русскому языку и литературе восхищалась моими сочинениями и всячески подогревала гуманитарную сторону моих амбиций. Я разрывался между двумя этими направлениями. Люди обычно выбирают что-то одно, либо им нравится инженерное направление, либо они наоборот говорят: “Мы это не понимаем, мы только гуманитарии”, – а мне нравилось одновременно и то, и другое, и я разрывался. В итоге я поступил в Пермский университет на русский язык и литературу. Вот сейчас думаю, что было бы даже интереснее, если бы я пошел все-таки на мехмат, куда планировал в старших классах школы. Это, может быть, по-другому определило мою жизнь.
МИР: И все же Вы стали медиахудожником, прочитав книгу о медиаискусстве.
Да, New Media Logia – это сборник переводных текстов, в основном, зарубежных художников, философов, которые выражали свои точки зрения на революционность, которую несет Интернет и новые технологии, на то, как художники реагируют и что они могли бы сделать. Собственно, все это я прочитал за 20 с небольшим часов, и когда вышел из поезда, уже четко знал, что есть такие медиа-художники, медиа-искусство. Это все в основном за границей, но кое-что есть и в Москве. С того момента началась моя жизнь медиа-художника.
МИР: До этого осознания Вы уже создавали какие-то медиа проекты?
Первое погружение в сетевое искусство произошло, наверное, году в 1997–98м. У меня был проект “Бальтасар Грасианов: Умные мысли про Интернет”. Это был постмодернистский ремейк книги испанского писателя-иезуита XVII века Бальтасара Грасиана. Я писал этакие моралите применительно к самочувствию человека в Интернете, и как он должен себя там вести:
“Сущность и манера. Общаться по делу – важно, но не менее важно общаться изящно. Грубость вредит всему, даже справедливому и разумному. А любезность и самый жестокий отказ сделает если не приятным, то приемлемым. Во всех чатах и почтовых обменах очень много значит "как": приветливость, подобно шулеру, играет наверняка. Bel portarse украшает жизнь…”
Получилось забавно, и это все еще сочеталось с моей рассылкой. То есть, это все рассылалось пяти тысячам подписчиков, для 1998-го года это было очень приличное количество. В общем, в итоге я получил за эту рассылку и этот концепт премию первого фестиваля медиа-искусства Да-Да-Net. Эти $300 внушили мне надежду, что этим надо продолжать заниматься.
“Сущность и манера. Общаться по делу – важно, но не менее важно общаться изящно. Грубость вредит всему, даже справедливому и разумному. А любезность и самый жестокий отказ сделает если не приятным, то приемлемым. Во всех чатах и почтовых обменах очень много значит "как": приветливость, подобно шулеру, играет наверняка. Bel portarse украшает жизнь…”
Получилось забавно, и это все еще сочеталось с моей рассылкой. То есть, это все рассылалось пяти тысячам подписчиков, для 1998-го года это было очень приличное количество. В общем, в итоге я получил за эту рассылку и этот концепт премию первого фестиваля медиа-искусства Да-Да-Net. Эти $300 внушили мне надежду, что этим надо продолжать заниматься.
МИР: Какие еще связанные с медиаискусством события того времени произвели на Вас впечатление?
В Москве в 2000 году появилась прогрессивная организация МедиаАртЛаб [Выросшая из проекта “Художественная лаборатория новых медиа” на базе ЦСИ Сороса. – Прим. МИР] во главе с Алексеем Исаевым и Ольгой Шишко. Они сделали международный симпозиум для ученых и художников Pro et Contrа медиакультуры (2000) в РГГУ. Вот туда я и отправился. Я был действительно потрясен, потому что там я впервые увидел всех этих прекрасных людей, которые занимаются именно искусством, связанным с технологиями, с интернетом. В Перми все художники в то время были максимально далеки от интернета. Поэты еще какие-то были на короткой ноге с интернетом, не отрицаю. В Политехническом университете был центр компьютерных технологий с дурацким названием “Кокос” [Сокращение от Компьютерные Коммуникационные Системы. – Прим. МИР]. Некоторые лаборанты центра преследовали свои поэтические цели, и публиковали в сети стихи. Но никакие художники ни в Перми, ни вообще на Урале, ни вообще дальше за Уралом не осмысляли Интернет как некое пространство, средство, как это делают медиа-художники. В Москве я увидел этих людей, и они на меня произвели глубокое впечатление тем, как они выглядели. Они были необычно одеты, необычно разговаривали, говорили прекрасные вещи. Там я познакомился с Jodi, легендарным дуэтом сетевых художников из Нидерландов, с Алексеем Шульгиным и многими другими.
МИР: Было ли у вас какое-то представление о критериях, согласно которым Вы смогли утверждать: я – художник? Может быть, нужны были профессиональные компетенции, какие-то навыки, чтобы стать медиа-художником?
В том-то и прелесть, может быть, понятия «революционный художник», что никто никогда никого не учил быть медиахудожником. Сейчас вы можете поехать в Москву в школу Родченко или в Петербург в ПроАрте, и там вас прекрасно и относительно недорого научат хорошим и верным вещам, и вы выйдете выпускником и будете делать хорошие добротные медиа-арт проекты.
А тогда это была чисто “революционерская” деятельность в том плане, что кто хотя бы понимает, что это такое, тот уже способен прозвучать. Этим я и пользовался, потому что в Перми я часто вызывал недоумение, и журналисты меня всерьез спрашивали в 2005 году: “Признайтесь, вы же сами придумали медиаарт. Медиаарт, это же вы придумали? Нет же такого направления?”
Я просто не знал, что им сказать, потому что я только что, предположим, вернулся из Вены, получил пусть и не первый, но какой-нибудь маленький и подогревающий творческое самолюбие приз венского фестиваля Roboxotica. Контраст между локальным и международным менталитетами вообще был тогда довольно шокирующим. В Перми так было до приезда Марата Гельмана в 2008 году. Если же говорить о профессионализации, то позднее я чуть было не вступил в Союз кинематографистов, но бог меня как-то миловал. А к пермскому Союзу художников, я думаю, меня бы и близко никогда не подпустили.
МИР: Продолжая разговор о профессионализации, нельзя не сказать об экономической составляющей вопроса: если у вас есть профессия, значит, вы зарабатываете тем, чем занимаетесь. Художники при этом, за исключением, самых известных фигур, часто вынуждены совмещать с творческой деятельностью что-то еще: преподавание, либо административные должности в художественных институциях. Вас коснулась эта участь?
Каким-то художникам везет, например, очень официальным, соответствующим линии властей, они, может быть, получают зарплаты. Вообще же, вы правы, конечно. Мне искусство мало принесло дохода, относительные заработки приносило именно преподавание. Когда я в музее [PERMM - Прим. МИР] преподавал года два, периодически устраивал лекции, презентации, семинары — это был стабильный доход. Затем — кураторская работа в проектах типа Киберфеста, поддержка сайтов разных художественных организаций. Да, все-таки медиахудожник — это не то чтобы профессия. Однако теперь я уже наблюдаю поколение художников, которые относительно недавно выпустились или, наоборот, давно уже в Петербурге. Они, мне кажется, и налоги прекрасно платят, и все у них хорошо во всех смыслах. Первое поколение российских медиахудожников, появившееся в 90-е годы, все разъехались по европейским университетам и там преподают. Очень многие кураторы из 90-х, первые люди, которые организовывали вместе со мной фестивали и другие мероприятия в Москве или что-то показывали, наверное, большинство из них все ж таки осело в Англии, Германии, Нидерландах и других странах. Для них это [медиаискусство] оказалось прекрасным трамплином. Чем они сейчас занимаются, я не знаю, что-то не похоже, чтобы медиаискусством. Возможно, они изначально так свою карьеру и мыслили.
МИР: В Москве вы какое-то время работали начальником интернет отдела в Центре РОСИЗО, и при этом у вас были свои параллельно проекты как у художника. Легко ли было совмещать роли администратора и художника?
Там – да, потому что я был тогда в необъяснимом фаворе у начальства. РОСИЗО находился на территории монастыря на Петровке напротив музея Церетели (ММСИ). Это огромный монастырь с толстыми стенами, половина которого была занята по назначению — там, в этих старинных палатах, ходили попы, у них кипела церковная жизнь, а вторую половину занимало РОСИЗО. Помнится, я приходил не рано, уходил, когда хотел. Вместе со своими московскими коллегами и друзьями сделал фестиваль Read_me, посвященный software art, осмыслению программного обеспечения именно с точки зрения искусства, и разным художественным экспериментам, связанным с софтом. Когда я сидел в монастыре на Петровке в должности начальника интернет бюро, у меня была мечта создать медиаарт лабораторию. Начальство РОСИЗО мне потакало в определенных пределах, мне было сказано – мы это немножко будем финансировать. И я со своими коллегами, в том числе с Алексеем Шульгиным, решил сколотить вот такую организацию – свою московскую медиаарт лабораторию. В качестве названия мы почему-то не смогли ничего лучше, чем “Макрос центр”. И когда мы проводили фестиваль Read_me, там было написано, что фестиваль проводится при поддержке РОСИЗО, а организатор — Медиа-лаборатория “Макрос центр”. Все, кто приезжал, — иностранные гости, художники — называли его “Маркос центр”, МаРкос. Видимо, им так больше нравилось.
В принципе, может быть, был бы я карьеристом, я бы там и остался, стал бы официальным работником в штате уважаемой московской организации. Но я с достаточно большой легкостью с ними расстался и вернулся в Пермь, поставив текущие семейные проблемы выше, чем карьеру в РОСИЗО и вообще всю эту московскую жизнь.
В принципе, может быть, был бы я карьеристом, я бы там и остался, стал бы официальным работником в штате уважаемой московской организации. Но я с достаточно большой легкостью с ними расстался и вернулся в Пермь, поставив текущие семейные проблемы выше, чем карьеру в РОСИЗО и вообще всю эту московскую жизнь.
МИР: Расскажите подробнее о Вашем знакомстве с Алексеем Шульгиным и о том, что вы делали вместе.
Это было в конце 90-х. Алексей Шульгин тогда был гордый художник, совершенно далекий от разных институций и не завербованный никакой организацией. Он ездил, сверкал на международных фестивалях. Сейчас он один из кураторов Электромузея в Москве, то есть у него есть должность, а тогда это был полностью свободный человек, которого носило по всем Европам, в Австралию, в Америку – где угодно. Какое-то время очень формально я считался его начальником, и он получал даже зарплату в нашем РОСИЗО, гонорары за свою работу. Главный проект, который мы делали, — это фестиваль Read_me. Шульгин, объехав полсвета, повидав, может, сотню-другую разных фестивалей в качестве участника, понял, как в 1990-е годы в приличной загранице делаются фестивали медиаискусства. И у нас возникла идея сделать в Москве концептуальный фестиваль медиаискусства на тему software art, но по таким законам, как это делается именно в приличных странах типа Дании, или Шотландии, Германии. В принципе, для меня как для пермяка это была прекрасная школа. Потом я использовал этот опыт, когда вернулся из Москвы в Пермь. Возможно, я был в те годы редким для нашего края носителем знания, как правильно делать арт-фестивали. Я имею в виду даже элементарные вещи: правильно сформулированная идея фестиваля, создание сайта, разделение программы на категории, приглашение кураторов фестиваля, международной аудитории, сбор заявок, составление шорт-листа, потом работа с жюри и выяснение, кто получит какие места. Потом приглашение художников, как правильно создать выставку всех их работ, в какой день что проводить. Ну, и заключительная вечеринка, разумеется. Помню, у нас была чудная заключительная вечеринка фестиваля Read_me в московском центре “Дом”. Там был великолепный концерт швейцарской группы медиахудожников Micromusic, они играли на модифицированных геймбоях свою собственную восьмибитную музыку. Потрясающая вещь, у меня есть видеозапись этого концерта. Read_me был очень неплох.
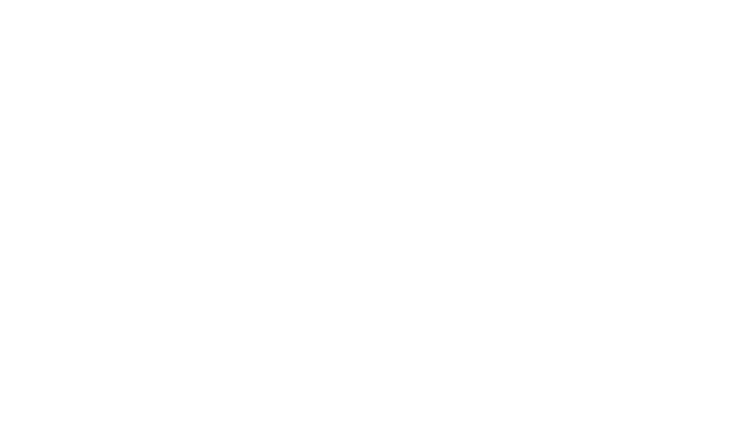
Концерт медиахудожников Micromusic, фестиваль Read_me, 2002.
МИР: Насколько Вы рисковали, создавая первый в России фестиваль медиаискусства?
Ну, не такой он уж был и первый… Я на самом деле тоже думал: “Как я вообще во все это влез?” В общем, проблема была в том, что мы были не полностью обеспечены финансово. Нам обещали деньги начальство РОСИЗО, но не хватало, грубо говоря, десяти или пятнадцати тысяч долларов. Представьте: художники из разных стран приезжают, мы им всем обещаем компенсировать проезд, гонорары, и потом мы сидим с Алексеем Шульгиным, я говорю: “Что делать, если мое начальство не даст этих денег? У них же там свои проекты: “Москва-Берлин”, большая выставка”. Шульгин отвечает: “Придется квартиры продавать, что делать, надо все равно обязательства выдержать”. Тут я думаю: “Вот ведь что это за героизм такой!” Потому что в 2002 году десять или двадцать тысяч долларов – это были огромные деньги для, скажем так, начинающего медиахудожника.
МИР: Вы уже упоминали Марата Гельмана: какое-то время, пока он еще не доехал до Перми, вы сотрудничали в Москве. В частности, проект “За что мы не любим Маскву” в виде выставки представлен в галерее Гельмана. Расскажите, пожалуйста, как это произошло.
Вначале был проект, который я делал в Перми вместе с моим товарищем дизайнером по прозвищу Гаррисон. Я придумал простецкую веб-анкету «За что мы не любим Маскву» через букву “а”, и в ней предлагались несколько вариантов ответа. Анкету сопровождали гостевые доски. Тогда, в 1999 году, еще не было привычных нам комментариев, вместо них были эти самые гостевые доски. В общем, этот проект всколыхнул весь интернет, мне из Москвы писали возмущенные москвичи. Благодаря этому проекту я дистанционно познакомился с Маратом Гельманом. Он предложил сделать совместный проект в Москве в его галерее, которая, как я помню, тогда располагалась на Полянке. У Гельмана был круг художников, которым он симпатизировал, благоволил и всячески их поддерживал, и среди них – художник Юрий Хоровский, с которым он устроил нам творческий дуэт. Юрий Хоровский сделал работы на основе материалов, накопленных моим пермским веб-проектом, моей анкетой. Все это было развешено на стены, пришли люди, пришла пресса – ведь накануне они разослали полторы тысячи факсов с пресс-релизом, то есть, у Марата Гельмана сотрудники очень профессионально по меркам 90-х годов работали с прессой.
У нас с Маратом Александровичем был еще один проект, связанный с нашивками “Приезжий”. Мы объявили конкурс на дизайн лучшей нашивки для приезжего из региона в Москву. Меня эта тема тогда волновала, ведь я был пермяк, который комплексовал перед москвичами, и мне это не нравилось. Когда я приезжал в Москву, я испытывал легкое чувство изгоя, действительно: ты обязан был получить регистрацию в течение 3-х дней, и меня, как и многих других, останавливали московские милиционеры, бывало, что вымогали взятку. Этот проект был злой карикатурой на историю с желтыми звездами Давида, которые вынуждены были носить евреи во времена войны на оккупированных нацистами территориях. То есть, не то чтобы мы всерьез хотели как-то еще больше принизить приезжих. Мы хотели подчеркнуть абсурдность того, что люди в своей собственной стране, приезжая в свою собственную столицу, должны подвергаться каким-то унизительным бюрократическим процедурам и остракизму из-за нестоличной прописки.
Словом, выставки в Москве делались так: я как концептуальный художник, интернет-художник, делал работу, выстреливающую в медийном пространстве, где сто тысяч человек пришло, написали свои мнения, переругались, а потом в галерее Гельмана происходила визуализация этих эмоций и результатов. Для этого был привлечен художник Юрий Хоровский, умеющий рисовать, в отличие от меня.
У нас с Маратом Александровичем был еще один проект, связанный с нашивками “Приезжий”. Мы объявили конкурс на дизайн лучшей нашивки для приезжего из региона в Москву. Меня эта тема тогда волновала, ведь я был пермяк, который комплексовал перед москвичами, и мне это не нравилось. Когда я приезжал в Москву, я испытывал легкое чувство изгоя, действительно: ты обязан был получить регистрацию в течение 3-х дней, и меня, как и многих других, останавливали московские милиционеры, бывало, что вымогали взятку. Этот проект был злой карикатурой на историю с желтыми звездами Давида, которые вынуждены были носить евреи во времена войны на оккупированных нацистами территориях. То есть, не то чтобы мы всерьез хотели как-то еще больше принизить приезжих. Мы хотели подчеркнуть абсурдность того, что люди в своей собственной стране, приезжая в свою собственную столицу, должны подвергаться каким-то унизительным бюрократическим процедурам и остракизму из-за нестоличной прописки.
Словом, выставки в Москве делались так: я как концептуальный художник, интернет-художник, делал работу, выстреливающую в медийном пространстве, где сто тысяч человек пришло, написали свои мнения, переругались, а потом в галерее Гельмана происходила визуализация этих эмоций и результатов. Для этого был привлечен художник Юрий Хоровский, умеющий рисовать, в отличие от меня.
МИР: Были ли в таких выставках технологические составляющие?
Ну что вы, на самом деле, тогда еще казалось революционным просто взять, например, страницы сайта распечатать на листочках А4 в цвете, повесить на стену — и вот уже критики приходят и смотрят на это. Потому что цветной принтер сам по себе был редкостью. Это было революционное время, когда использовать пейджер для того, чтобы опубликовать поэтический цикл, например, в виде серии сообщений — это уже некое достижение. Сейчас это технологический лубок, а тогда, в 90-е годы, это все обладало революционной аурой, и этим на самом деле было очень увлекательно заниматься.
МИР: Продолжая тему коллабораций: онлайн-проект «Главные желания XXI века», по следам которого Вы с другим художником сделали видео-арт проект. Расскажите об этой коллаборации, пожалуйста.
Проект "Главные желания XXI века" тоже был революционным по духу, но в ином ключе. Одно тысячелетие заканчивалось, другое начиналось... Но, кстати, я выяснил, что на самом деле третье тысячелетие начинается в 2001 году, а наступающий 2000 год – последний год второго тысячелетия. Однако подавляющее большинство людей этого не понимали, и они какое-то библейское ощущение смены времен начали испытывать уже в конце 1999 года, поэтому проект был запущен именнов конце 1999 года, а закончился в 2001-м. Это был сайт, на который с помощью пейджеров передавались сообщения. Делать сайт мне помогал Евгений Вилюжанин — прекрасный человек, спасибо ему, я помню про его важную помощь: в 1990-е годы в Перми не всякий мог сделать веб-сайт. Также я вошел в коллаборацию с пермской пейджинговой компанией “СТлинк”: пермяки загадывали на следующее тысячелетие свое желание, звонили по телефону пейджинговой компании, операторы записывали, и это попадало на сайт опять же в формате гостевых досок. То есть, там можно было увидеть реальные “ленты” этих желаний. Еще раз повторю: тогда это было необыкновенно, еще не было никаких сервисов типа “Золотая рыбка”, коллекционирующих желания, все это появилось уже в последующие годы. Сам по себе сайт, который был этому посвящен и технологически работал именно с телефоном — это было нечто необыкновенное для того времени.
МИР: Как вы использовали этот сборник желаний в художественных целях?
Я как редактор выбирал самые интересные высказывания, составлял дайджесты и рассылал их, пытаясь вовлечь самых разных художников, и международных в том числе. Эти тексты пытались перевести на английский язык, и международные художники делали свои собственные работы и присылали что-то, что по их мнению перекликается с загаданными желаниями пермяков. В числе прочих Антон Никонов сделал видео ролик. Строго говоря, видео-артом это назвать сложно: он работал на телевидении и просто сделал калейдоскоп, на который накладывались эти самые необычные высказывания пермяков о том, что они хотят. Иногда трогательные, иногда смешные. Помню, что Марат Гельман (тогда мы с ним еще не были лично знакомы) прислал текст, что его мечта в третьем тысячелетии — это секс с инопланетянами.
МИР: Вернувшись из в Пермь, вы перенесли туда московский опыт создания фестивалей, и так появилась “Машиниста”?
Да, именно так, у меня амбиций было очень много, и я в Перми как раз тоже стал делать фестиваль, посвященный искусственному интеллекту в искусстве — “Machinista”. Меня эта тема тогда волновала. Она меня всегда волновала — роботы, чат-боты — культурологические аспекты всего этого. Кроме того, фестиваль был посвящен виджеингу. Тогда это была достаточно модная тема, еще не угасшая, как сейчас. Имеется в виду клубное видео, которое в реальном времени делается художниками — или просто мастеровитыми видеооператорами, которые создают атмосферу. Фестиваль “Машиниста” в Перми 2003 года был создан по всем правилам и законам нормального европейского фестиваля. Комитет по молодежной политике Пермского края профинансировал его в каких-то очень разумных пределах.
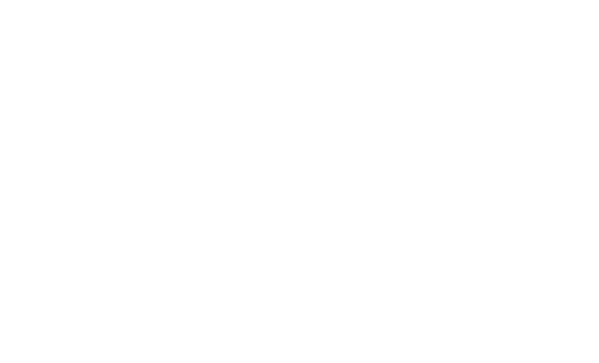
Сайт фестиваля "Machinista", 2003.
МИР: Где вы нашли дополнительную финансовую поддержку?
Никто нас тогда, по-моему, не поддерживал. Тогда у нас была договоренность с ДК “Телта”, где мы провели фестиваль. Сначала мы пришли в кинотеатр Октябрь, которым заведовал Паша Пьянков, как сейчас помню, и он заломил совершенно неприемлемые условия. И мы перебрались в “Телту” [дом культуры пермского телефонного завода. — Прим. МИР], сейчас его уже не существует, здание снесли. ДК находился на набережной Камы и выглядел по-совковски, но что-то они там пытались проводить, даже рок-концерты. И раз этот Комитет по молодежной политике был у нас заглавным спонсором, он же и устроил договоренность с “Телтой”. В принципе, это был хороший опыт, там более спокойно все проходило. Но и там тоже были какие-то проблемы: например, сгорел проектор стоимостью 500 долларов. И совершенно было не понятно, откуда эти деньги взять, все стрелки были переведены на меня как на директора фестиваля. Проекторы в те годы были большой редкостью — как сейчас, может быть, какое-нибудь оборудование для видеомэппинга. Сейчас ведь тоже не каждый проектор поставишь проецировать на оперный театр. Тогда же обычный проектор был некой волшебной ценностью, за которой надо было охотиться и у кого-то его спрашивать на время, договариваться. Если говорить еще об этом фестивале, у Комитета по молодежной политике был такой подход к его проведению, что организаторы обязательно должны были ничего не зарабатывать. В принципе. То есть, это прямо очень четко утверждалось: не дай бог, что вы там напишите, что вам какие-то гонорары выписали. Делайте фестиваль, приглашайте международных гостей, работайте с прессой, но вы не должны ничего заработать, у вас должен быть великий [альтруистический] порыв. И особенно еще подчеркивалось: ни в коем случае не вздумайте внести в смету расходы на мобильную связь. Вот не знаю почему. Это просто страшно каралось. То есть вообще никак, ты вот организуешь фестиваль и по телефону с кем-то говоришь, не дай бог ты это в смету внесешь — это было невозможно.
МИР: Затем вы повторно провели фестиваль “Машиниста” в Глазго?
В общем, на пермском фестивале было весело, интересно, приезжали художники-шотландцы, они куролесили в Перми в ночных клубах. Отличные ребята, и как раз они, когда вернулись со всеми этими идеями в свой Глазго, уже гораздо легче и проще договорились с Центром современного искусства Глазго, с какой-то Академией, с каким-то шотландским замком, который сейчас культурный центр. И через год мы — группа организаторов пермской “Машинисты” — были приглашены нашими бывшими шотландскими гостями в Глазго. Мы, я помню, вылетали в 2004 году в Лондон из Перми. Это тоже, в общем, отдельная песня, никто сейчас это уже не оценит, не вспомнит контекст. Устроить это было очень трудно: во-первых, получить британскую визу в Перми нельзя, не было же никаких турагентств. За британской визой надо было мотаться в Екатеринбург. У меня виза была, она выдается на полгода, а все мои товарищи, человек пять или шесть соорганизаторов пермской “Машинисты”, ездили в Екатеринбург в консульство Великобритании, где их битый час уговаривали: “Ну, может быть, вам не всем надо ехать в нашу Британию, может быть, там вот вы как-нибудь…” А они: “Нет, нет, нам очень надо”. В общем, всех впустили. И затемнам наши шотландцы прислали телеграфом около 70 тысяч рублей, какую-то большую по тем временам сумму. Мы тут же с этими деньгами пошли в “Трансагентство”, расположенное за пермским драмтеатром. Это было единственное место в городе, где можно было купить авиабилеты в Англию. Мы заходим, а там пустота, никого вообще нет. Обед что ли? Мы полчаса стояли, ждали, потом начали уже как-то сигналить, кричать в эти пустые помещения. Вышла тетка, говорит: “Ну, что вам надо-то вообще?” “Мы хотим купить шесть билетов в Лондон, вот”. “Куда? Какой Лондон? Куда? У вас виза-то есть?” “Есть виза”. “Да не может быть, ну-ка покажите”. Мы показываем британские визы: “Ну-ка продайте нам билеты!” Купили все эти билеты и полетели в Лондон.
МИР: Безусловно, это дух пермской “Машинисты”, раз такое удалось провернуть.
Я хочу без зазнайства сказать, что шотландская “Машиниста” была, конечно, продолжением пермской. Там были тоже виджеинг, были все те же темы, связанные с роботами, с искусственным интеллектом. Но это делали уже шотландцы, то есть там были новые шотландские кураторы. Я, конечно, был там лишь “свадебным генералом”, то есть, про меня говорили – вот автор идеи. Но, в целом, я даже мало что понимал, потому что с английским у меня не очень. Ну, тогда я и подумал, что на такой прекрасной ноте, как шотландская версия “Машинисты”, можно эту тему и закрыть, потому что мне показалось что я уже в Перми не сделаю ничего лучше и вообще где бы то ни было. Там был размах, конечно, потрясающий. Три дня были вечеринки, клубные какие-то дела, и выставки, и перформансы. В общем, это было здорово — и неповторимо.
МИР: В то время Вас интересовали чат-боты и робототехника. Расскажите о проекте “Уорхолбот”, в рамках которого Вы сотрудничали с Дмитрием Александровичем Приговым. Как, казалось бы, такие разного порядка явления сошлись в одном? За счет чего, по вашему, Дмитрий Александрович Пригов влился в медиаарт и даже взаимодействовал с Уорхол-ботом?
Нет, там было не так. “Уорхолбот” — это отдельный проект, который был реализован в 2006 году на базе технического комплекса, стоящего в Мотовилихе. Мне удалось прикрутить симку Мегафона к компьютеру, и там был самописный сервер, который сделал мастер из Тулы. Я в этот комплекс заложил целую книгу — автобиографию Энди Уорхола. И мой бот через смс мог с самыми разными людьми вести смс-диалоги, как будто он Энди Уорхол, и более-менее толково. А то, что вы вспоминаете про Дмитрия Александровича Пригова, это 2001 год, когда я работал у Марата Гельмана, у нас одно время редакция размещалась там же, где размещались редакции Лента.ру и Газета.ру, на Зубовском бульваре, в здании РИА-новости. И там много что происходило. Там со мной бок о бок работали Вячеслав Курицын, Макс Фрай, которая Светлана Мартынчик. Рядом там был и Глазычев, архитектор, с ним мы тоже сидели рядом, да, я помню запах его трубки. Шабуров Александр все время прибегал. Он приходил позже всех, где-то в районе 5 часов вечера. То есть все приходили на работу к 11, к 12 на этот Зубовский, а Шабуров, когда кто-то журил его так ласково: “Саша, ну что ж ты так поздно приходишь”, – он отвечал: “Я вообще никогда поздно не прихожу, я прихожу каждый день минута в минуту без пятнадцати пять”. И вот он там сидел допоздна с компьютерами, и потом уходил в полночь. И еще там была большая столовая на этом Зубовском бульваре, где я регулярно встречал Пригова, который тоже чем-то был занят в этом комплексе зданий.
У меня была тогда идея, с которой я не только к Пригову подходил, но и к другим художникам. Это был концептуальный проект, от медиа у него было только то, что он был реализован с помощью диктофона с микрокассетами. Тут надо понимать, что у Уорхола была такая линия концептуальная: он объявлял магнитофон своей женой. У него была определенная связь именно с магнитной пленкой, и поэтому этот носитель был выбран мною не случайно. Это был микро-магнитофон, который мне выдал Марат Гельман для этого проекта.
Смысл был такой: я выбрал 12 цитат из той же автобиографической книжки Энди Уорхола, которая в то время была опубликована тиражом 1000 экземпляров петербургским издательством “Про Арте” и была редкостью. Выбрал 12 цитат и сделал серию интервью. То есть я был посредником между высказываниями Энди Уорхола и разными интервьюируемыми.
У меня была тогда идея, с которой я не только к Пригову подходил, но и к другим художникам. Это был концептуальный проект, от медиа у него было только то, что он был реализован с помощью диктофона с микрокассетами. Тут надо понимать, что у Уорхола была такая линия концептуальная: он объявлял магнитофон своей женой. У него была определенная связь именно с магнитной пленкой, и поэтому этот носитель был выбран мною не случайно. Это был микро-магнитофон, который мне выдал Марат Гельман для этого проекта.
Смысл был такой: я выбрал 12 цитат из той же автобиографической книжки Энди Уорхола, которая в то время была опубликована тиражом 1000 экземпляров петербургским издательством “Про Арте” и была редкостью. Выбрал 12 цитат и сделал серию интервью. То есть я был посредником между высказываниями Энди Уорхола и разными интервьюируемыми.
Одним из моих собеседников, самым удачным, наверное, оказался как раз Дмитрий Александрович Пригов — потому что он был способен выдавать огромные нарративы на любую тему. Я ему говорю: “Вот Энди Уорхол, — и показываю ему список из 12 цитат. — Дмитрий Александрович, нужно прочитать одну цитату вслух, а потом сделать свое высказывание, как будто перед вами Энди Уорхол, он вам задает вопрос, а вы ему отвечаете”. Проект назывался “Игра в Interview”, то есть, перекличка с журналом Энди Уорхола, когда одни звезды интервьюируют других.
Дмитрий Александрович все это прекрасно сразу понял и в ответ записал мне не одну а 12 таких полноценных речей, половину из которых я, к сожалению, прошляпил из-за технического брака. А половина опубликована у меня на сайте. Надо заметить, что тогда я вообще очень фанател от Энди Уорхола, но не как от рисовальщика и автора каких-то работ — мне больше нравились и вдохновляли его концептуальные идеи и его стиль мышления, философия Энди Уорхола.
МИР: Вопрос про “Киномясорубку”, еще один очень известный Ваш проект. Где Вы с ней побывали с гастролями?
Это был мой самый гастролирующий проект-аттракцион. Я сделал его в 2004 году. Мясорубка была найдена на пермском металлорынке. Потом я долго искал мастера, который бы согласился в 2004 году сделать определенную электронную начинку внутри этой мясорубки. Но все пермские мастера, инженеры отказывались - считали это какой-то дикой блажью: что-то для художника делать инженерное. Существовали будто две несоприкасаемые касты: художники с их бредовыми идеями и, соответственно, толковые инженеры, которые сидят что-то паяют, делают, ремонтируют технику, заняты важными делами. В конце концов, в центре “Гармония” я нашел прекрасного бородатого специалиста по имени Валера, и он мне сделал этот агрегат. Потом с этой “Киномясорубкой” я много где путешествовал. В Прибалтике, в Дании, в Германии, в Австрии получил даже премию какую-то. В Москве в Музее кино тогдашнем. Ездил в Казахстан в Алма-Ату. Да я везде ее с собой таскал. У меня был кофр, киномясорубка в нем прекрасно помещалась, тут же лежала справка, подписанная директором Пермского центрального выставочного зала, о том что это оборудование никакой художественной ценностине имеет. Так я пытался обезопасить себя от возможных проблем на границе, что начнут спрашивать: а где справка на вывоз, если это искусство? Я, конечно, был наивен, никого это не интересовало, хотя и выглядело подозрительно: какое-то тяжелое металлическое советское устройство, мясорубка, а внутри провода торчат. Как-то, знаете, вообще ни разу справкой не воспользовался. Последний раз я с ней прекрасно выступил в 2013 году в Берлине. Еще были Тюмень, Красноярск, Нижний Новгород в Арсенале. Москва, Петербург, безусловно. Да я везде ездил с удовольствием. Еще я четыре раза был в США с разными проектами, наверное, и с “Киномясорубкой” тоже выступал.
МИР: После международных гастролей “Киномясорубка” попала на хранение в музей?
Один экземпляр из двух “Киномясорубок” куплен как раз в Нью-Йорк, а второй находится в коллекции музея PERMM. Я помню очень смешную историю о том, как я выступал в Пермской художественной галерее году в 2005-м или 2006-м. Там собрались уважаемые работники этой галереи, маститые искусствоведы очень уважаемого возраста. И они выслушали мою речь (artist talk), я показал им “фильм из мясорубки”, и они тогда в числе прочих задали вопрос: “Вы вот этим занимаетесь, неужели Вы думаете, что когда-нибудь это попадет в музей, неужели хотите войти в историю как художник с киномясорубкой?” Я говорю — да. И по странному такому стечению обстоятельств… усмешка судьбы что ли… Да, как раз “Киномясорубка” в музей попала. “Киномясорубка” — это, можно сказать, единственный мой проект, который удостоился нормального музеефицирования по всем стандартам, принятым в Российской Федерации.
МИР: “Поэтофон” не попал в PERMM?
Поэтофон тоже уехал в США в Майами. Я хотел его подарить [пермскому книжному] магазину “Пиотровский”, но “Пиотровский” пренебрег этим даром, и, в общем-то, после того как он постоял там какое-то время, я его забрал, сдул с него пыль, и он уехал в США.
МИР: Следующий и, наверное, самый крупный проект, то, чем вы занимаетесь сейчас, — лаборатория CYLAND. Как она появилась?
Я, наверное, старейший работник этой организации художников, если не считать самого главного начальства. Международная организация художников CYLAND, медиаарт лаборатория, была основана в 2007 году. Первоначально в ее создании участвовали американский фонд St Petersburg Arts Project из Нью-Йорка и петербургское отделение Центра современного искусства. Первые годы эти две организации управляли ею совместно. Петербургский ГЦСИ часто предоставлял площадки и административные возможности для того, чтобы показывать проекты CYLAND. Нью-Йоркский фонд помогал деньгами и американскими участниками.
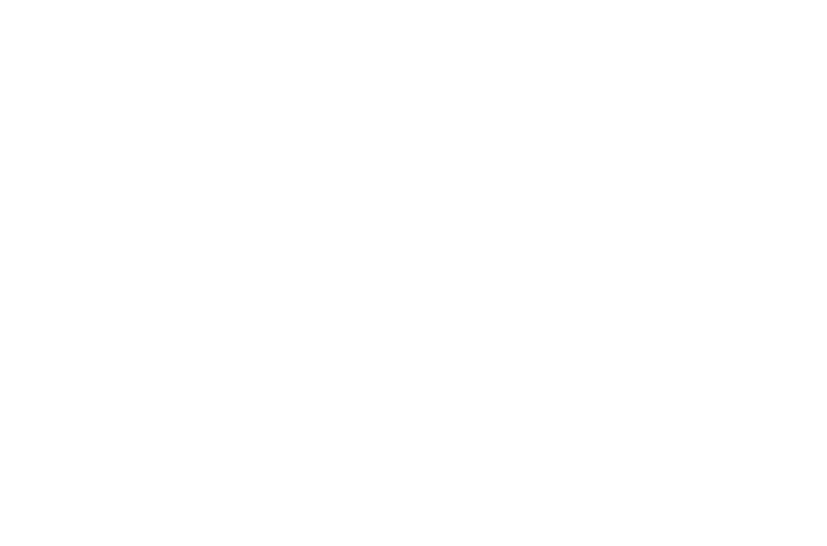
Киберфест-11, основной проект «Прогноз погоды: цифровая облачность», в Академии им. Штиглица, 2017-2018. Фотография Михаила Борисова.
МИР: Киберфест тоже отдельно очень интересен.
Киберфест проводился каждый год. В этом году тоже должен быть XIII Киберфест, который, однако, был отменен из-за общей ковидной ситуации. Объединение CYLAND управляется международной группой кураторов, очень увлеченными людьми с художественным образованием, которые любят то, чем они занимаются, они сами художники, и у нас уже многие годы работает прекрасно подобранный коллектив. Это также и наши инженеры, одновременно художники. Если вспомнить предыдущие мои высказывания о том, как нелегко было в 2004 году найти хоть какого-нибудь компьютерного мастера, который согласится мне в мясорубку запихать детали от компьютерной мышки, то вот теперь у нас есть целая лаборатория со специалистами. На Пушкинской 10 у нас есть целый этаж, забитый техническими устройствами и деталями, инструментами и в том числе проекторами, у нас их очень много теперь, и разной другой техники. Там работают прекрасные люди - наши инженеры, делают проекты для лаборатории, помогают технически воплощать замыслы художников, которые попадают в орбиту творческих взаимодействий CYLAND’а, таких как Петр Белый, например, или Виталий Пушницкий. Многие авторы то приходят, то уходят, а некоторые с нами постоянно, как Елена Губанова или Иван Говорков. Инженеры работают, не покладая рук, в нашей лаборатории для того, чтобы появлялись новые проекты, а старые оставались в хорошем состоянии. Также они выезжают в разные страны чтобы монтировать выставки. Гораздо проще, если едешь в Берлин или в Венецию, в Лондон — у нас в Англии будет этой осенью большая выставка, — привезти своих инженеров, чем на месте искать местных и объяснять им, что нужно нашим художникам. Поэтому у нас появилась вот такая летучая бригада инженеров или техников, — тем более, что все они имеют свои собственные проекты или в sound-art, или делают какие-то оригинальные технологические объекты. Это правильный подход.
На Рубинштейна у нас есть выставочное пространство, скорее галерея, в Майами тоже есть некое пространство. Раньше большая тоже площадка была в Нью-Йорке, где и я в том числе устраивал выставку, посвященную Кларе Рокмор и терменвоксу. В общем, есть несколько площадок, и есть большое количество сочувствующих нам лиц в разных странах. В Италии, в первую очередь. Мы всегда участвовали в событиях Венецианской Биеннале. У нас есть плотные связи с университетом Ca’Foscari, есть и свой итальянский куратор, который именно так себя осмысляет — как со-куратор CYLAND’а.
На Рубинштейна у нас есть выставочное пространство, скорее галерея, в Майами тоже есть некое пространство. Раньше большая тоже площадка была в Нью-Йорке, где и я в том числе устраивал выставку, посвященную Кларе Рокмор и терменвоксу. В общем, есть несколько площадок, и есть большое количество сочувствующих нам лиц в разных странах. В Италии, в первую очередь. Мы всегда участвовали в событиях Венецианской Биеннале. У нас есть плотные связи с университетом Ca’Foscari, есть и свой итальянский куратор, который именно так себя осмысляет — как со-куратор CYLAND’а.
МИР: Вы позиционируете CYLAND как альтернативу московской арт сцене?
Незначительные элементы взаимной ревности, может, и присутствуют, потому что питерцы все слегка скептично относятся к московской среде, но вражды или особого соперничества я не наблюдаю. Мы часто приглашаем московских участников на Киберфест.
МИР: Какие у вас критерии при отборе участников?
В этом году концепция нашего фестиваля — “Хаос и космос”. Художники должны предлагать нечто, что соответствует нашим концепциям, потом они должны продемонстрировать определенный уровень своих работ, и мы должны иметь уверенность, что они действительно не бросят замысел на полпути и все сделают как надо.
МИР: Чем обуславливается выбор концепции, как выбирается тема каждого следующего фестиваля?
Это великая тайна, потому что это делают наши главные кураторы. Они делают это иногда мучительно. И не за пять минут делают, а собираются и обсуждают идею. Очень долго могут это обсуждать, и в этом году тема — это “Хаос и космос”. А первые два или три наших фестиваля вообще обходились без заглавной темы. В 2007 году мы просто показывали, что у нас было. Я участвовал со своей “Киномясорубкой”, с “Кибер Пушкиным”, другие художники и наши сотрудники — со своими проектами, все это было в Петропавловской крепости, приехала замечательная Джули Мартин, вдова Билли Клювера, лектор и пропагандист его творчества.
Было такое объединение E.A.T. – инженеры в сотрудничестве с художниками, которые в Нью-Йорке работали в 1960-70-е годы. И во многом CYLAND, особенно поначалу, себя осмыслял и позиционировал как продолжение той американской истории. Мы вдохновляемся историей E.A.T. Поэтому CYLAND совершенно отчетливо находится в традиции, в отличие от моего пермского фестиваля “Машиниста”, который был такой весь из себя и сбоку бантик. CYLAND сделан по определенному канону, другое дело, что у нас в России этот канон не особо известен. А в США это вполне понятное направление искусства, и вот это взаимодействие между инженерами и художниками – это пятидесятилетняя традиция. Билли Клювер, например, работал с Энди Уорхолом и с Раушенбергом. Он разрабатывал и такой проект: Энди Уорхол попросил его сделать чудесные парящие в воздухе светящиеся лампочки. И это объединение инженеров по заказу Уорхола долго и много билось над вопросом как сделать так, чтобы люди приходили в выставочное пространство, и там очень красиво, словно современные дроны, парят электрические огни. Они тогда не смогли это сделать, технологии не позволяли. Но инженеры E.A.T. все равно решили этот вопрос: так появился проект, известный как “Серебряные облака” — большие парящие блестящие зеркальные подушки, заполняющие пространство. Мы тоже в 2007 году заполнили этими парящими серебряными подушками Уорхола пространство Петропавловской крепости в Петербурге. На фотографиях фестиваля повсюду видны эти зеркальные пластиковые подушки, парящие в пространстве. Это пример того, как инженеры выполнили заказ Уорхола, не сумев воплотить идею с летающими лампочками, — но придумали и изготовили зеркальные подушки, которые, если на них прицельно светить, дают эффект, который заказывал Уорхол.
Было такое объединение E.A.T. – инженеры в сотрудничестве с художниками, которые в Нью-Йорке работали в 1960-70-е годы. И во многом CYLAND, особенно поначалу, себя осмыслял и позиционировал как продолжение той американской истории. Мы вдохновляемся историей E.A.T. Поэтому CYLAND совершенно отчетливо находится в традиции, в отличие от моего пермского фестиваля “Машиниста”, который был такой весь из себя и сбоку бантик. CYLAND сделан по определенному канону, другое дело, что у нас в России этот канон не особо известен. А в США это вполне понятное направление искусства, и вот это взаимодействие между инженерами и художниками – это пятидесятилетняя традиция. Билли Клювер, например, работал с Энди Уорхолом и с Раушенбергом. Он разрабатывал и такой проект: Энди Уорхол попросил его сделать чудесные парящие в воздухе светящиеся лампочки. И это объединение инженеров по заказу Уорхола долго и много билось над вопросом как сделать так, чтобы люди приходили в выставочное пространство, и там очень красиво, словно современные дроны, парят электрические огни. Они тогда не смогли это сделать, технологии не позволяли. Но инженеры E.A.T. все равно решили этот вопрос: так появился проект, известный как “Серебряные облака” — большие парящие блестящие зеркальные подушки, заполняющие пространство. Мы тоже в 2007 году заполнили этими парящими серебряными подушками Уорхола пространство Петропавловской крепости в Петербурге. На фотографиях фестиваля повсюду видны эти зеркальные пластиковые подушки, парящие в пространстве. Это пример того, как инженеры выполнили заказ Уорхола, не сумев воплотить идею с летающими лампочками, — но придумали и изготовили зеркальные подушки, которые, если на них прицельно светить, дают эффект, который заказывал Уорхол.
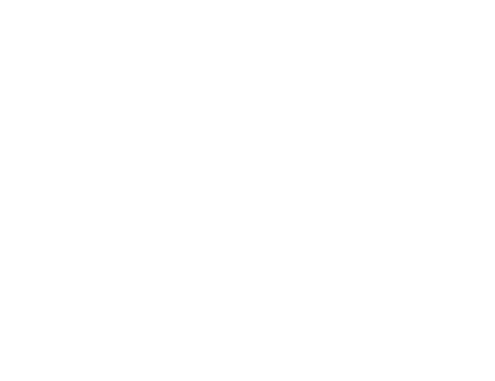
Энди Уорхолл, "Серебрянные облака" (инсталляция). Киберфест, 2007.
МИР: В начале нашей беседы Вы сказали, что традиционное медиаискусство кончилось в 2010 году, медиатехнологии стали обыденностью. Что же сейчас является новшеством в технологическом искусстве? В чем актуальность этого искусства сегодня?
Сейчас, безусловно, надо быть более обученным, профессиональным, то есть все-таки желательно поучиться пару лет в школе Родченко или еще где бы то ни было. Технологическое искусство стало более раздробленным на разные маленькие, очень интересные феномены. Мне много что нравится, на самом деле. Например, тот же Алексей Шульгин сейчас развивает направление медиаискусства, связанное с понятием экологии. У него недавно был такой перформанс: они вместе с женой Яниной Пруденко выезжали на окраину Москвы и занимались утилизацией произведений современных художников. Они это делали в роще, где на деревьях висели брошенные остатки чьих-то чужих перформансов. Художники — часто безалаберные люди, они что-то сделают, затем, предположим, сфотографируют, получат свою толику славы — и так свои произведения и бросают. Вот Шульгин с женой все это взялись утилизировать, и одновременно в виде манифеста они опубликовали текст о том, что художники должны быть экологичными, должны сами утилизировать свое искусство. [Подробнее о концепции Zero Waste Art рассказывает Янина Пруденко - Прим. МИР]
Что мне в этом нравится? Вообще, само понятие о том, что художник — это такая же профессия, как сантехник, как водитель или как кондитер. То есть, надо мыть за собой посуду, заботиться об окружающей среде, не загрязнять ее. Не объявлять без конца, что я гений. То есть объявлять-то можно, если это в рамках какого-то личного художественного дискурса. Но вот сделал ты свой перформанс — так убери за собой, так же, как учат собаководов: гуляешь с собакой, возьми совочек, мешочек. Точно так же художники должны поступать. Художники вообще не понимают этого вопроса утилизации искусства, его жизненного цикла. Художники, на самом деле, уклоняются от осмысления себя в этих параметрах. Как не могут представить, что для них возможно быть кем-то другим кроме как художником. Поменять свою профессию, стать, к примеру, таможенником. Руссо был таможенником — стал художником, или вот Рембо был поэтом, потом ему это надоело — он стал работорговцем в Африке и прекрасно тоже прожил жизнь, и только в конце жизни узнал, что он, оказывается, гениальный поэт. Большинство художников совершенно не способны себя представить в иных профессиональных рамках. Это профессиональная аберрация сознания, безусловно. Может быть, они должны так себя воспринимать, быть всю жизнь опьяненными сами собой. Не говоря уж о том, что лично для меня интересный вопрос — куда девается все это огромное количество современного искусства, которое производится с бешеной скоростью в неисчислимых количествах каждый год.
Что мне в этом нравится? Вообще, само понятие о том, что художник — это такая же профессия, как сантехник, как водитель или как кондитер. То есть, надо мыть за собой посуду, заботиться об окружающей среде, не загрязнять ее. Не объявлять без конца, что я гений. То есть объявлять-то можно, если это в рамках какого-то личного художественного дискурса. Но вот сделал ты свой перформанс — так убери за собой, так же, как учат собаководов: гуляешь с собакой, возьми совочек, мешочек. Точно так же художники должны поступать. Художники вообще не понимают этого вопроса утилизации искусства, его жизненного цикла. Художники, на самом деле, уклоняются от осмысления себя в этих параметрах. Как не могут представить, что для них возможно быть кем-то другим кроме как художником. Поменять свою профессию, стать, к примеру, таможенником. Руссо был таможенником — стал художником, или вот Рембо был поэтом, потом ему это надоело — он стал работорговцем в Африке и прекрасно тоже прожил жизнь, и только в конце жизни узнал, что он, оказывается, гениальный поэт. Большинство художников совершенно не способны себя представить в иных профессиональных рамках. Это профессиональная аберрация сознания, безусловно. Может быть, они должны так себя воспринимать, быть всю жизнь опьяненными сами собой. Не говоря уж о том, что лично для меня интересный вопрос — куда девается все это огромное количество современного искусства, которое производится с бешеной скоростью в неисчислимых количествах каждый год.
МИР: Вы придумали для себя ответ на этот вопрос?
Начав как-то фантазировать, я сказал одному художнику, который утверждал, что все его работы без исключений попадут в музей: “Ты же в Союзе художников состоишь?” — “Да, состою”. Я начал рассуждать: “Конечно, Союз постоянно производит огромное количество произведений искусства. Куда-то ведь они их там девают, когда понимают что не все они нужны обществу. Как они это делают? Они их как-то сжигают, как-то может тихонечко, застенчиво куда-нибудь закапывают? Может быть, тогда нам сделать такой проект, создать общероссийский полигон утилизируемого искусства. Можно ведь представить, как от Союза художников из разных областей и краев туда будут съезжаться грузовики с невостребованными произведениями искусства, и там их будут утрамбовывать каким-то образом”.
К чему я все это говорю – сейчас существует очень много мозаичных интересных направлений, каждое из которых может показаться безумным, очень интересным, и нет какого-то общего направления. Раньше в 1990-е годы общее направление я формулировал вслед за немецким профессором Моникой Флейшман примерно следующим образом.
К чему я все это говорю – сейчас существует очень много мозаичных интересных направлений, каждое из которых может показаться безумным, очень интересным, и нет какого-то общего направления. Раньше в 1990-е годы общее направление я формулировал вслед за немецким профессором Моникой Флейшман примерно следующим образом.
Я считал, что цель медиаискусства — это очеловечивать, гуманизировать технологии, мертвенные, бездушные, совершенно утилитарные: пейджеры, интернет, мобильные телефоны. В конце 1990-х за этим ничего человеческого не было. Интернет был только для публикации прайс-листов. Мобильная связь тоже для каких-то бизнес дел. Там не было даже развлечений. И тогда мне казалось, что я всех медиахудожников люблю, потому что они все очеловечивают технологии, делают в новом пространстве что-то смешное, художественное, странное, что-то нестандартное. Сейчас же каждый медиахудожник, кроме того, что он работает с медиа, несет свою собственную идею, и предсказать ее, и сказать, какая из них главная, невозможно.
Если говорить о CYLAND’е, то он объединяет художников с академическим образованием, они и сами преподают в Академии художеств. Они прекрасно образованы, любят академическое искусство, отлично в нем ориентируются, и большую часть своих ярких и запоминающихся проектов, которые мы возим на выставки, они создают, переосмысляя технологически академические шедевры. Например, “Даная” Елены Губановой и Ивана Говоркова сделана в виде набора золотых зеркал, похожих на очертания женской фигуры — это кинетическая скульптура. Зеркала сделаны на моторчиках, и когда они шевелятся, они работают со светом, то есть отражают свет таким образом, что это действительно переосмысление известного произведения “Даная”.
МИР: Какие критерии для отбора технологического искусства существуют в вашей практике? Какие вы проекты архивируете? Только то, что связано с историей искусства, или могут быть другие проекты?
Могут быть и другие, у нас архивация происходит все еще в экспериментальном режиме, я имею в виду “архивацию для будущего”. Пока что передо мной стоит задача — как перед сотрудником с ежедневными обязанностями — я должен подготовить многочисленные проекты наших художников [к архивации]. Может быть, какая-то самая первая стадия испытания пройдена, у нас уже сформирован некий подход, мы понимаем, что должно находиться в публичной части этой информационной капсулы, что в закрытой, каким способом должны сохранять подлинность файла. Когда говоришь о цифровом сохранении для будущего, то, конечно же, бессмысленно говорить об оригинале, но есть смысл говорить о точности файла. Могу пояснить свою мысль. Например, если вы видели какие-нибудь работы Гогена и вспоминаете период его творчества на Таити, очень многие его работы выполнены в очень необычной цветовой гамме. Например, “Женщина, держащая плод” на фоне тропической природы. Цвета очень необычные. Когда гуглишь по названию вот эту конкретную работу конкретного Гогена, открывается, скажем, двадцать картинок, и они все отличаются по цветовой гамме, а некоторые подрезаны по краям. И речь идет о том, что нужно сохранять для будущего точность авторского файла. Точность до байта. Надо каким-то образом, но это уже другая история, добиться того, чтобы существовал эталонный авторский файл, и чтобы он правильно сохранялся. Потому что все равно, будь то видеоработа, или чья-то репродукция какой-то живописной работы, или аудио, все равно будут соблазны трансформации у последующих редакторов и архивистов, без конца перезаписывающих с zip-drive’а на какой-нибудь другой носитель, в mp3, потом из mp3 еще куда-нибудь. Они могут доделать свои титры, могут посмотреть на картинку – ну, что такое, ну-ка, сделаю тут нормализацию, нормализую эту картинку, она будет поярче. Вот так они, кстати, и появляются, эти двадцать разных цветовых вариантов одной работы Гогена. И уже трудно понять многим людям, которые хотят, во-первых, посмотреть что это такое, а во-вторых, может быть, написать школьную или курсовую работу по периоду Таити в творчестве Гогена, им трудно уже понять, как выглядел оригинал. Поэтому должен существовать какой-то сохраняемый как нечто святое, точный файл, который сам автор авторизовал (в идеале). Вот это тоже часть работы, над которой мы думаем.
МИР: В Перми у вас была акция в видео-салоне в кафе “Валида”: вы платили посетителям деньги за просмотр видео-арта. Вопрос об экономической составляющей искусства. Какой формат искусства на ваш взгляд сейчас наиболее свободен от вкусов аудитории, от требований институций?
Платил я в действительности один раз. Люди пришли совершенно честно посмотреть видеоарт, ну и посидеть в “Валиде”. А я заплатил им под лозунгом, что просмотр российского видеоарта — это труд, и каждый труд должен быть вознагражден. Накануне я прочитал тогда высказывание о том, что если ты не видел российского видеоарта, то это хорошо. Я подумал о том, что может измениться, если, предположим, просмотр видеоарта будет финансируемый. И решил провести эксперимент.
МИР: Какой видеоарт Вы показывали?
Тогда мы в Валиде показывали не только шедевры типа Мэтью Барни. Показывали часто и какие-то присылаемые нам подборки очень молодого, сложного, да и просто не очень удачного российского видеоарта. Художники в нулевые годы очень широко понимали понятие видеоарт. Они в это понятие включали и перформансы, заснятые на видео, а мы, в общем-то, давали площадку всем, и поэтому смотреть это было часто нелегко.
Я вдруг вспомнил другую свою теорию, которая сейчас мне очень нравится. Это теория карго-культуры. Размышления о российском видеоарте меня на это навели: очень многие произведения в современном российском искусстве делаются примерно аналогично тому, как на островах в Меланезии после того, как США убрали оттуда свою военную базу, туземцы реконструировали взлетные полосы, из кокосов делали наушники, сигналили палками — они думали, что если они таким образом реконструируют взлетную полосу из подручных предметов в своей деревне и будут делать то же самое, что делали американские военнослужащие, когда там была военная база, то к ним снова будут прилетать транспортные самолеты с провизией для армии, с которых им, местным, перепадали продукты. Все это вместе с военной базой исчезло, но они мечтали все вернуть. Я хочу сказать, что, к сожалению, я встречаю в нашем искусстве проявления подобной карго-культуры. Вот и Гельман уехал, пермская [культурная] революция завершилась, а все еще делаются такие мероприятия как будто в расчете на то, что если сделать такую же полосу и так же выходить и махать палками в таких же наушниках, будут снова приземляться такие груженые транспортные самолеты из столиц, оттуда выйдут кураторы, галеристы, мультимиллионеры, которые начнут скупать пермское искусство. Наверное, это можно назвать — карго-арт.
Я вдруг вспомнил другую свою теорию, которая сейчас мне очень нравится. Это теория карго-культуры. Размышления о российском видеоарте меня на это навели: очень многие произведения в современном российском искусстве делаются примерно аналогично тому, как на островах в Меланезии после того, как США убрали оттуда свою военную базу, туземцы реконструировали взлетные полосы, из кокосов делали наушники, сигналили палками — они думали, что если они таким образом реконструируют взлетную полосу из подручных предметов в своей деревне и будут делать то же самое, что делали американские военнослужащие, когда там была военная база, то к ним снова будут прилетать транспортные самолеты с провизией для армии, с которых им, местным, перепадали продукты. Все это вместе с военной базой исчезло, но они мечтали все вернуть. Я хочу сказать, что, к сожалению, я встречаю в нашем искусстве проявления подобной карго-культуры. Вот и Гельман уехал, пермская [культурная] революция завершилась, а все еще делаются такие мероприятия как будто в расчете на то, что если сделать такую же полосу и так же выходить и махать палками в таких же наушниках, будут снова приземляться такие груженые транспортные самолеты из столиц, оттуда выйдут кураторы, галеристы, мультимиллионеры, которые начнут скупать пермское искусство. Наверное, это можно назвать — карго-арт.
МИР: Если смотреть шире, не только в Перми, а вообще в России?
Это встречается везде. Я не хотел совершенно выделить и задеть Пермь, это вообще проблема российского современного искусства, в нем есть прекрасные работы и шедевры, им стоит заниматься, но огромное количество вещей делаются именно так, как делался карго-культ. Берутся некие западные образцы, и кажется, что если сделать что-то аналогичное, из того же разряда, повторить в точности — и тогда приземлятся красивые самолеты, выйдут парижские, нью-йоркские галеристы и кураторы и начнут бешено аплодировать.
МИР: Где же тогда новаторство, где свобода, за чем будущее в искусстве?
Будущее за тем современным искусством, которое понимает свою связь с почвой, например, с пермским дискурсом, с пермской цивилизацией — если говорить о пермяках. То есть когда художники делают что-то, что должно понравиться не воображаемому парижскому куратору, а срезонирует с людьми здесь, в Перми. Прекрасная работа “Распятый космонавт” Александра Жунева — это пример работы, сделанной там, где надо, в нужное время, в нужном месте и совершенно правильно резонирующее с пермским обществом - именно в то время, когда были обострены противоречия светского общества и церкви, пасхальных празднеств и пропаганды, связанной с советским космосом. Как раз в это время появляется работа Жунева “Распятый космонавт” — и это правильное, с моей точки зрения, современное искусство. Художник должен либо делать то, что резонирует с его локальным контекстом, либо, если он хочет работать с другим, перемещаться туда, где этот контекст актуален. В Петербург, например, там поле возможностей гораздо шире. Там люди еще более широко образованы, их большее касается. Если вы уезжаете в Нью-Йорк, вы тоже попадаете в другой дискурс и другую среду, в другой контекст, где тоже не каждый проект будет уместен.
Дело не в том, чтобы идти против течения, или за течением, мне кажется, за этим скрывается сама суть современного искусства. Успешное, эффективное, классное современное искусство должно иметь связь, вибрацию и резонировать с людьми. Оно должно вплетаться в культурный контекст.
Но я допускаю, что могут существовать и принципиально другие подходы. Например, художник, находясь в Перми, живет в Демидково, предположим, ни с кем не общается, там у него мастерская, там ему доступна недорогая рабочая сила, если понадобится, и он что-то пилит, делает, потом загружает в контейнер и увозит сначала в Петербург, а потом через границы, предположим, в ту же Венецию или в Берлин и там показывает. Такая модель тоже возможна.
МИР: Процитирую ваши слова из интервью 2007 года о том, что “нам нужен свой Эйзенштейн в медиаискусстве и нам требуется «Броненосец «Потемкин»» в категории software art”. Нашлись ли такие фигуры за период, прошедший с 2007 года?
Я думаю, нет, потому что это мое высказывание как раз отражало пафос того революционного времени, которое, как я считаю, ушло. Сейчас уже никто не ждет от медиахудожника никакой «Броненосец «Потемкин»», да он и не нужен больше, к примеру в жанре software art, который и сам по себе как направление не состоялся. Не вижу большого продолжения этой истории. Думаю, что сейчас быть медиахудожником — это значит найти свою тему, свое место, свою нишу и делать что-то профессионально, работать и быть адекватным, и понимать, какую связь ты имеешь со своим географическим контекстом, то есть какое место ты занимаешь в общем списке местных художников, во-первых, и в других странах сравнительно. И оценивать себя хронологически — знать тех кто был до тебя, и понимать куда все это идет. То есть придерживаться в самооценке вот такой трехсторонней системы координат — кто я, с кем я сейчас и когда я живу — это, конечно же, необходимо для вменяемого художника.
Материал подготовила Софья Абашева
Напишите нам
Мы ответим в ближайшее время









