Арсений Сергеев. К истории современного искусства Урала
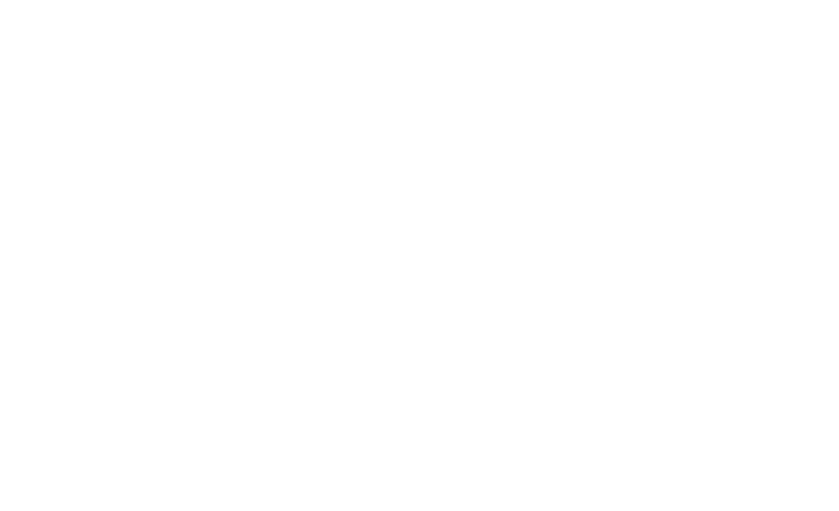
Масштабное интервью проекта Открытая база данных «Междисциплинарное искусство в России» (МИР) с Арсением Сергеевым продолжает серию эфиров «Новые Антологии», посвященных художественной сцене Екатеринбурга.Арсений Сергеев — художник, куратор, автор книги «Художественная культура Урала», преподаватель НИУ ВШЭ, один из первых кураторов в России, включавших технологическое искусство в актуальную повестку крупных художественных проектов, как междисциплинарный художник он использовал новые медиа в своих работах.
Арсений поделился с нами своими воспоминаниями о художественной сцене Свердловска-Екатеринбурга с 1980-х по середину 2000-х годов, рассказал о своих кураторских проектах в Екатеринбурге и Перми, а также ответил на вопросы об актуальных процессах в современном искусстве.
Арсений поделился с нами своими воспоминаниями о художественной сцене Свердловска-Екатеринбурга с 1980-х по середину 2000-х годов, рассказал о своих кураторских проектах в Екатеринбурге и Перми, а также ответил на вопросы об актуальных процессах в современном искусстве.
Часть I: «Ты что думаешь, если ты не будешь рисовать, мир перевернется?»
МИР: Расскажите, пожалуйста, о Вашем становлении как художника.
Я уже долгое время нахожусь под сильным впечатлением от лекций Роберта Сапольского из курса по биологии поведения человека, который он преподает в Стэнфордском университете. Он говорит об органике, о том, что, в общем-то, мало что происходит в нашей жизни осознанно. Я начал учиться искусству с шести лет. По тем временам, у меня был весьма и весьма продвинутый учитель (вообще, мне с учителями везло все время). Меня учил Виктор Гардт, художник-сезаннист. Сезаннистом быть в СССР позднего застоя было сравни крамоле. Хотя в Екатеринбурге, тогда Свердловске, как и во всех крупных городах, местное отделение Союза художников было левое. То есть, это были художники, которые не были последовательными соцреалистами, они, скорее, ориентировались на Парижскую школу — Пикассо, Брак, Шагал, Леже и т.д. Этот круг вполне состоявшихся и признанных официально художников и транслировал «тайные знания». Все они находились под сильным влиянием мифа Павла Филонова. Филонов до Перестройки был запрещён. Такого художника не существовало. Однако, я видел его работы.
МИР: Как Вам это удалось?
Мне всё время везло. Но в мире, с моей точки зрения, нет ничего случайного. Поэтому везение это скорее всё-таки не везение, а это некое желание, интенция, которая заставляет человека двигаться в ту или иную сторону. Я сейчас читаю «Фатальные стратегии» Бодрийяра, и он на новом уровне подтверждает мои догадки.
Когда я учился в художественном училище имени Шадра, в Союзе художников проводились «подпольные» лекции. «Подпольные» в том смысле, что о них объявлялось не широко, а только для своих. На одной из них наши авторитеты — Герман Метелев, Миша Брусиловский и Виталий Волович — рассказывали о Павле Филонове, показывали самодельные, не очень хорошего качества слайды. Они собственными глазами видели легендарную выставку художника, показанную, кажется, в 1967 году в Новосибирском академгородке. После лекции стало понятно, что каждый по-своему интегрировал и интерпретировал его наследие в своих работах.
Когда я учился в художественном училище имени Шадра, в Союзе художников проводились «подпольные» лекции. «Подпольные» в том смысле, что о них объявлялось не широко, а только для своих. На одной из них наши авторитеты — Герман Метелев, Миша Брусиловский и Виталий Волович — рассказывали о Павле Филонове, показывали самодельные, не очень хорошего качества слайды. Они собственными глазами видели легендарную выставку художника, показанную, кажется, в 1967 году в Новосибирском академгородке. После лекции стало понятно, что каждый по-своему интегрировал и интерпретировал его наследие в своих работах.
МИР: Вы узнали о Филонове со слов своих учителей. Как же все-таки удалось увидеть запрещенные работы своими глазами?
Тогда же, в училище, я стал организовывать выставки. Я быстро находил общий язык с теми, кто мне нравился как художник. Одним из них был Илья Владимиров. Его отец был директором музея изобразительных искусств в Кургане. А все руководители музеев в стране были знакомы, и у многих были неформальные связи друг с другом. Он организовал нам встречу в Русском музее. Мы специально поехали в Ленинград смотреть Филонова! Пришли в Русский музей со служебного входа, нас встретил директор и спросил: «И что вы хотите посмотреть? Филонова дореволюционного или послереволюционного?» Мы говорим: «Дореволюционного». Он отвечает: «Ну, как хотите, ладно». И он нас отвел в запасники, где мы увидели всего три или четыре работы дореволюционного периода. В них еще нет окончательного филоновского аналитического метода, но там уже видна сверх детальная проработка. Неожиданным образом, эти работы напоминают немецкий экспрессионизм по базовой пластике, и они транслируют характерный психологический надрыв.
МИР: Что у Филонова Вас особенно впечатлило?
Одну работу можно было увидеть в музее Академии художеств. И она отчасти подтверждала историю о том что Филонов не был принят в первый раз в Академию художеств из-за незнания анатомии, а потом поступил с пометкой «за исключительные знания анатомии». Понимаете, какой настойчивостью и целеустремленностью обладал Филонов? Я этот академический рисунок больше нигде не видел, почему-то его не публикуют. Это типичная «обнаженка» в очень динамичной позе. Мужская фигура со спины стоит на одном колене и наклоняется вперёд так, что голова почти скрыта плечами. Причем, рисунок еще и сделан странно, он синего цвета — говаривали, что у художника не было денег на обычные карандаши, и он рисовал «химическим карандашом», у такого карандаша штрихи при соприкосновении с влагой становятся синими (не знаю, есть ли сейчас такие карандаши, раньше их использовали на производстве для разметки и на почте надписывали посылки). Миф гласит, что Павел Филонов, приходя в класс, рисовал не так, как все остальные студенты — свет, тень, форму. Художник начинал со скелета, потом «одевал» на него мышцы, далее он прорисовал все жилы, все кровеносные сосуды, и только потом уже обобщал это до формы покрытой кожей. Это, конечно, жутковатый рисунок. Степень проработки мышц такая, что кажется — это экорше. Явно было видно огромное количество слоев: художник делал его постепенно, как бы строя эту фигуру.
МИР: Как знакомство с живописью Филонова повлияло на Вас?
Можно говорить о том, что Филонов — это некоторый поворотный пункт. Видя Филонова, ты понимаешь, что существует другой тип мышления. Нас учили люди, грубо говоря, кубисты-неоклассицисты. Один мой преподаватель — Владимир Сысков, ученик Фаворского, гравер — дал мне хороший глазомер и точность рисования, гравюрный штрих. Второй — Анатолий Александрович Калашников, фантастически энергичный человек, который сам себя развивал, общаясь с кругом людей, окончивших Ленинградский Институт им. Репина (Петербургская Академия художеств). Он, например, говорил так: «Вот что такое Филонов. Он не мыслит формами, он мыслит частицами. Лучший образ, что такое Филонов, — это взять спички, подбросить их и сфотографировать — вот это Филонов».
Пожалуй, самые главные мои открытия все были сделаны в училище.
Калашников для меня открыл все искусство. Благодаря ему я стал понимать и литературу, и поэзию, и музыку, и балет, и архитектуру. Он нам дал основательное понимание того, как, по каким законам строится произведение искусства, что эти законы работают одинаково, независимо от медиума. Это принципы, фундаментальные вещи.
МИР: Однако, через некоторое время после училища Вы все же закончили Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, отделение монументальной живописи. Насколько важен был этот этап?
Да, я ее закончил, и, честно говоря, это был самый тяжелый период в истории страны: 1991—95-е годы. Можете себе представить: в Москве было так же плохо, как в Екатеринбурге, попросту нечего было есть. Я тогда поступал просто, чтобы мои родители перестали беспокоиться за мою судьбу. В УрГАХА я не то чтобы отбывал время, но я делал то, что я уже умел, оттачивал мастерство насколько это было возможно, инновации там не очень приветствовались.
МИР: Приходилось ли в дальнейшем осваивать новые навыки, новые медиа?
Я самостоятельно освоил компьютер. Я начинал с CorelDraw и Photoshop’а. Потом был PageMaker, QuarkXpress, потом InDesign, то есть я самостоятельно освоил верстку, потом — монтаж видео Premiere и FinalCut, это мне очень помогло, я тогда делал видео-арт [Например, «Черная Рука» (1997), «Розочка» (1999). — Прим. МИР], но, честно говоря, их мало, и поскольку я теперь снова художник, видимо, примусь и за этот медиум.
МИР: Что привлекло Вас как художника в видео-арте?
В то время ситуация была такова, что, во-первых, если ты работаешь в мастерской, за это нужно платить. А для того, что ты делаешь на компьютере, не нужна мастерская. Во-вторых, ситуация складывалась так, что художник делает картины, устраивает выставки, а это никуда не идет, его работы не продаются, и, кажется, все это никому не нужно. Кроме того, у меня не очень благоприятный бэкграунд в плане поддержки родителей: они не очень верили в перспективы того, чем я занимаюсь. С одной стороны, они меня подталкивали именно в этом направлении, но события в стране развивались таким образом, что художник в случае большинства выпускников училищ и даже вузов — это не профессия, а социальная роль, неприкаянный, несчастный человек, который трудно живет и зарабатывает в основном не искусством, а чем-то рядом: оформительство, иллюстрация, преподавание. Наверное, это главная причина, почему я стал работать куратором.
МИР: Как проходила Ваша профессионализация как куратора? Ведь в СССР такой профессии не существовало. Откуда вы черпали знания?
У меня всегда была дополнительная информация, которой не было у других, меня очень интересовало современное искусство и я искал любые материалы везде, где только можно. Например, была такая возможность: букинистические отделы в книжных магазинах, где можно было купить невероятные книги. Однажды мне попалась книжка «Американский рисунок. История американской графики с начала и до 1980-х годов». То есть, до постмодернизма. Объемистая книжка страниц 500-600. Внимание, она стоила тридцать рублей! Тридцать рублей «доперестроичных» денег. У меня тогда стипендия была 30 рублей, а зарплата в 130 рублей считалась очень хорошей зарплатой. Я просил у родителей слезно: мне нужна эта книжка. Они мне дали 30 рублей, можете себе представить?!
У нас в училище была библиотека, и в ней как и в любой приличной библиотеке был спецхран — книги и журналы которые не выдавались обычным читателям, на них не было каталожных карточек, — там хранились подборки L'art décoratif, Art et Décoration с 1914 по 1933 и Dekorative Kunst c 1890 по 1910 год, и много еще чего. Например, огромного размера, толстые папки литографированных немецких фоторепродукций по декоративному искусству: кованые двери, металлическая посуда, интерьеры, керамика. Все в очень хорошем состоянии, классные штуки. Поэтому, например, я не просто читал в воспоминаниях Нади Леже о Мари Лорансен, но мог посмотреть репродукции ее картин и ковров в подшивке L'Art aujourd'hui 20-х — 30-х годов.
У нас в училище была библиотека, и в ней как и в любой приличной библиотеке был спецхран — книги и журналы которые не выдавались обычным читателям, на них не было каталожных карточек, — там хранились подборки L'art décoratif, Art et Décoration с 1914 по 1933 и Dekorative Kunst c 1890 по 1910 год, и много еще чего. Например, огромного размера, толстые папки литографированных немецких фоторепродукций по декоративному искусству: кованые двери, металлическая посуда, интерьеры, керамика. Все в очень хорошем состоянии, классные штуки. Поэтому, например, я не просто читал в воспоминаниях Нади Леже о Мари Лорансен, но мог посмотреть репродукции ее картин и ковров в подшивке L'Art aujourd'hui 20-х — 30-х годов.
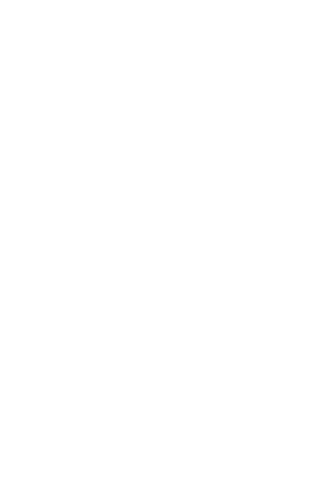
Обложка журнала Art et Decoration. Источник изображения: Arthistoryresearch.net
Собственно говоря, я организовывал выставки начиная примерно года с 1984-го, то есть еще в училище. В читальном зале этой библиотеки я сделал штук шесть выставок со своими друзьями. Один раз в учебную четверть мы делали какие-то выставки: графика, живопись, все вперемешку. После училища я состоял в молодежном отделении Союза художников, и тогда были «творческие дачи», знаете, сейчас это называется «арт-резиденции». Проживание там оплачивалось Союзом художников, тебе нужно было просто приехать и там что-то делать. Мы, например, ездили на дачу в Зеленоград — Челюскинская дача. Печатали там литографии. И там уже было профессиональное общение. Там появилась идея, что мне мало просто производить искусство, проявился раж организовывать показы искусства. Понимание, что я могу так высказываться.
А о кураторе как профессии я узнал, когда в Екатеринбурге открылся американский культурный центр Джорджа Сороса.
Там можно было найти журналы Art in America, ArtNews, ArtForum. Там в рецензиях на выставки, особенно сборные, куратор оказывался фигурой порой более важной, чем художник.
МИР: Зеленоград — это ведь Подмосковье, то есть, Вы, наверняка, бывали и в Москве?
Это тоже был важный момент, потому что я еще в детстве ездил в Москву и знал про Малую Грузинскую [Московский Горком художников-графиков на Малой Грузинской, 28. — Прим. МИР]. Я не помню, откуда я про эти выставочные залы узнал. Там, когда я был совсем юным, мне было двенадцать лет, я оказался на выставке Владимира Янкилевского. Не так давно была его большая персональная выставка на Гоголевском бульваре в ММСИ. То есть, он настоящий классик советского неофициального искусства, и я видел его выставку на Малой Грузинской живьем.
Насколько же кривая все-таки российская ситуация — это бесконечное очень странное гибридное соединение мракобесия и попыток прорыва, настоящих мировых открытий в искусстве. Мракобесие всегда концентрировалось во власти, а интеллектуалы, так или иначе, для удержания этой власти были нужны, поэтому для них придумывались разного рода «загончики»: шарашки в сталинское время, позже научные городки, разнообразные молодежные отделения профессиональных союзов, Союза художников, например. И когда в большой политике были гонения на художников, одновременно Лисицкий выпускал «на экспорт» абсолютно конструктивистский журнал «СССР на стройке», подобный тем, что выпускали в то время на «капиталистическом Западе»: De Stijl, к примеру. В 1970-е годы, в эпоху брежневского Застоя, тоже существовала такая хитрая гибридная ситуация. Нельзя сказать, что дизайн, или кино, или архитектура уж сильно отставали от того, что делали в Европе. Более того, все это было на уровне. Мне довелось в музее Миланского Триеннале посмотреть выставку итальянской промграфики 1970-х годов. Так вот, у нас она была абсолютно такая же. Мои наставники, хотя они непосредственно меня не учили, скорее, друзья моих учителей, делали то же самое. Можно вспомнить журнал «Знание — сила» или «Химия и жизнь». Иллюстрации к ним создавали художники-авангардисты.
Насколько же кривая все-таки российская ситуация — это бесконечное очень странное гибридное соединение мракобесия и попыток прорыва, настоящих мировых открытий в искусстве. Мракобесие всегда концентрировалось во власти, а интеллектуалы, так или иначе, для удержания этой власти были нужны, поэтому для них придумывались разного рода «загончики»: шарашки в сталинское время, позже научные городки, разнообразные молодежные отделения профессиональных союзов, Союза художников, например. И когда в большой политике были гонения на художников, одновременно Лисицкий выпускал «на экспорт» абсолютно конструктивистский журнал «СССР на стройке», подобный тем, что выпускали в то время на «капиталистическом Западе»: De Stijl, к примеру. В 1970-е годы, в эпоху брежневского Застоя, тоже существовала такая хитрая гибридная ситуация. Нельзя сказать, что дизайн, или кино, или архитектура уж сильно отставали от того, что делали в Европе. Более того, все это было на уровне. Мне довелось в музее Миланского Триеннале посмотреть выставку итальянской промграфики 1970-х годов. Так вот, у нас она была абсолютно такая же. Мои наставники, хотя они непосредственно меня не учили, скорее, друзья моих учителей, делали то же самое. Можно вспомнить журнал «Знание — сила» или «Химия и жизнь». Иллюстрации к ним создавали художники-авангардисты.
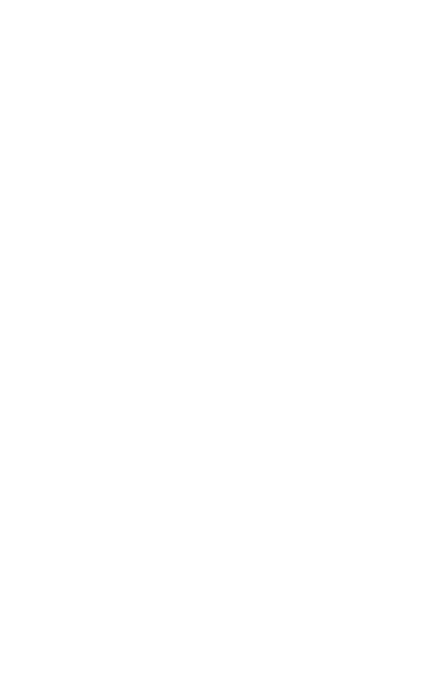
Обложка журнала De Stijl. Источник изображения: Википедия
МИР: Но вернемся в Москву 1990-х годов. Как пришло осознание себя как куратора?
Когда мы приезжали на Челюскинскую дачу, мы, естественно, работали и ездили в Москву на выставки. К тому времени уже существовал ГЦСИ, открылись куча галерей, и там показывали совсем другое искусство. Как раз тогда открылась TV-галерея, где можно было увидеть инсталляции, видео-арт. Плюс, журнал ХЖ — «Художественный журнал» Виктора Мизиано. Для меня это, видимо, тоже поворотный пункт, потому что из ХЖ я узнал о том, что кураторы существуют и у нас в «родных пенатах». Есть такая профессия. Это два. Три: в Американском культурном центре, когда ты смотришь журналы — Art in America и Artforum,— ты видишь, что кураторы востребованы, кураторы указываются в афишах. А самое главное, ты понимаешь, что куратор — какая-то важная фигура. Оказывается, есть в мире образовательные программы Curatorial Studies, на которые можно поехать учиться, есть даже конференции кураторов. Тут я понимаю: «О, интересно, я вроде всегда организовывал выставки, и, кажется, это мое. Я — куратор!».
МИР: Вы внутри себя как-то различаете, где заканчивается художник и начинается куратор?
В этом очень много сложных чисто психологических моментов, с которыми я только-только разобрался. Нам внушали, что продавать, например, искусство — это что-то дурное, художник должен противостоять рынку. С другой стороны, все, кто нас учил искусству, продавали свои работы, исполняли заказы и так далее. Но когда ты молод, в голове все складывается, как складывается, ты недостаточно критичен, все берешь на веру.
Кажется, что в принципе-то это легко — разделить роли формально, потому что когда я куратор — я куратор, я организую, я отбираю, я пишу тексты. Когда художник — это физически совершенно другое, и как раз сейчас наступило время, когда художник должен быть одновременно сам себе куратором. В России до сих еще не очень хорошая ситуация с кураторами и всей инфраструктурой современного искусства в целом, и поэтому я в Высшей школе экономики преподаю специальность «художник и куратор», я учу тому, что умею сам. Но на самом деле я всегда разводил эти роли. Это главная причина, почему не двигалась моя художественная карьера.
Казалось бы, в отношении себя я вполне могу быть куратором, легко. Я, вообще-то, зашел в современное искусство «с черного хода», я знаю всю его подноготную. Однако этика говорит нам: нет, как куратор ты можешь быть таким, а вот как художник ты исполняешь другую роль, воспроизводишь другие стереотипы. Только сейчас я понимаю, что это всего лишь стереотипы: художник-богема, что ты делаешь это, потому что не можешь не делать, что продавать — это стыдно, что художник всегда ждет, как невеста, когда его выберут. Вся эта чепуха.
Кажется, что в принципе-то это легко — разделить роли формально, потому что когда я куратор — я куратор, я организую, я отбираю, я пишу тексты. Когда художник — это физически совершенно другое, и как раз сейчас наступило время, когда художник должен быть одновременно сам себе куратором. В России до сих еще не очень хорошая ситуация с кураторами и всей инфраструктурой современного искусства в целом, и поэтому я в Высшей школе экономики преподаю специальность «художник и куратор», я учу тому, что умею сам. Но на самом деле я всегда разводил эти роли. Это главная причина, почему не двигалась моя художественная карьера.
Казалось бы, в отношении себя я вполне могу быть куратором, легко. Я, вообще-то, зашел в современное искусство «с черного хода», я знаю всю его подноготную. Однако этика говорит нам: нет, как куратор ты можешь быть таким, а вот как художник ты исполняешь другую роль, воспроизводишь другие стереотипы. Только сейчас я понимаю, что это всего лишь стереотипы: художник-богема, что ты делаешь это, потому что не можешь не делать, что продавать — это стыдно, что художник всегда ждет, как невеста, когда его выберут. Вся эта чепуха.
Когда я стал куратором, я отложил карьеру художника, просто перестал о ней думать, не прекращая все это время делать работы, эскизы проектов.
У меня есть профессия — куратор, точнее, вдруг это стало профессией, вдруг мне стали за это платить. Ну и хорошо, думал я, будем заниматься этим до тех пор, пока это интересно. Мой наставник, Виктор Иванович Реутов — он не был моим учителем, но для меня он был авторитетом, — художник-график в Екатеринбурге. У него большая семья, у них была огромная роскошная квартира в самом центре, в Городке чекистов, в конструктивистском доме. И вот ты наблюдаешь, как он делает промграфику и книги, и этим зарабатывает, он рисует и графику, и довольно большие картины и не пытается особенно кому-то это продать. И вот он мне говорит: «Ты что думаешь, если ты не будешь рисовать, мир перевернется?» Я задумался: «Правда, не перевернется». И это тоже было поворотной точкой. Я начал критично приглядываться к тому что я такое рисую, и подумал — в общем-то, что-то в духе того, что делают все остальные, кто выпустился на моем курсе. И зря. Они уже перестали работать как художники, а я продолжал, но я сравнивал себя с ними. И это тоже повод для дрейфа в сторону кураторства.
Часть II: Журнал «Комод» и художественная сцена Екатеринбурга 1990-х — 2000-х гг.
МИР: Вы сказали, что узнали о профессии куратора в Американском культурном центре Джорджа Сороса. Расскажите, пожалуйста, о своей деятельности в этом центре.
Это был период моей активной дружбы с Сашей Шабуровым, вместе мы делали выставки. Однажды меня позвали сделать выставку в Американском культурном центре. Вот, собственно, еще одна поворотная точка к кураторству: я сделал выставку на заказ. Возможно, вы знаете кинокритика Сергея Анашкина, специалиста по азиатскому кино — Южная Корея, Таиланд, Китай. В те времена у него возникла идея сделать выставку, посвященную голливудским звездам 1930-х годов. У него было много старых фотографий: раньше в вагонах электричек из-под полы продавались фотокарточки кинозвезд для коллекционирования, и он где-то их раздобыл. Первое мое кураторское экспозиционное решение было найдено именно для этой выставки. Здесь я не просто расставлял произведения в определенном порядке, я придумал ход, как их показать. Это же, по сути, просто фотопортреты, и нужно было показать ценность этих изображений. Они все были вирированные снимки в коричневой гамме. Я предложил Серёже: «Давай мы сделаем так, что фотографии — это как будто бы шоколадные конфеты. Я заверну фото в кальку, на манер дорогих конфет в “воротничках” из пергамента или фольги. И мы их положим под стекло в рамке, как конфеты в коробку». Кстати, благодаря этой выставке мы познакомились с Наилей [Аллахвердиевой. — Прим. МИР].
МИР: Как завязалось ваше сотрудничество?
Наиля тогда пришла в Американский центр с подругой, а мне не хватало крепежа, и вместо него я использовал колечки от пивных банок. Девчонки тоже чем-то помогали, и их отправили купить пивные банки. Они купили пиво, и я пил и развешивал экспозицию. Уже потом мы с Наилей и с Леной Крживицкой стали делать журнал «Комод». Они выпускали его будучи студентками второго курса [факультета искусствоведения и культурологии УрГУ. — Прим. МИР], и в то время их журнал делался по модели «Мира искусства», потому что для их преподавателей в университете «Мир искусства» был недосягаемым образцом. Саша Шабуров повел меня к девчонкам, предложив им «промыть голову» о том, что журнал надо делать про современное искусство. Мы с ними познакомились, быстро убедили в своих идеях и стали им помогать. Мы все близко подружились — я очень люблю искусство, люблю об этом рассуждать, поэтому мы говорили на одном языке, и, поскольку я как художник мог рассказать о художнических вещах, о пластике, композиции, контрастах, ритмах, — Наилю и Лену это очень увлекло: «Боже, а почему нас в университете этому не учат?».
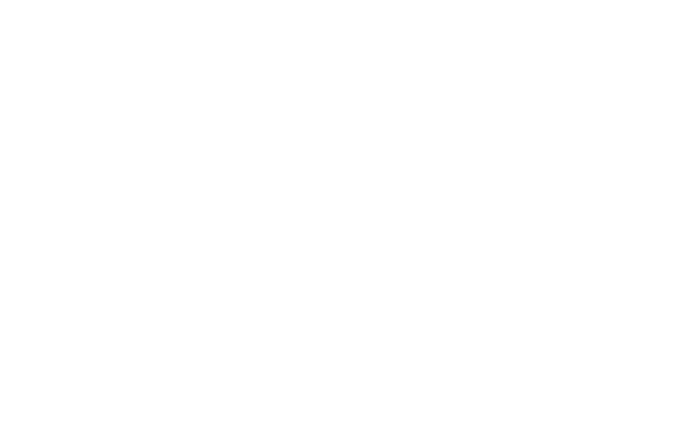
Обложки журнала "КОМОД". Источник: Лекция "Истории о журнале "КОМОД", август 2021
МИР: Как от студенческого журнала вы перешли в ГЦСИ?
Журнал был ключом к тому, что мы «получили» филиал ГЦСИ в Екатеринбурге.«Комод» был не так уж прост: после четырех самодельных номеров с тиражом 50-100 экземпляров мы получили финансирование от фонда Сороса и печатали его на мелованной бумаге, с хорошей обложкой, и тиражом уже 500 экземпляров. Главное, мы брали очень много интервью. Все ворота тебе открыты, если ты «представитель прессы». Мы брали интервью у кого хотели: и у художников, и у кураторов, и функционеров.
МИР: Кто вас интересовал прежде всего?
Нас интересовали, во-первых, яркие персонажи художественной сцены того времени. Во-вторых, меня, как и Наилю и Лену, интересовали функционеры от искусства, потому что нам самим была интересна эта область — организация художественных процессов. Поэтому, естественно, это были, с одной стороны, известные галеристы, художники и кураторы, а с другой — люди такого плана, как Александра Обухова, например, и Анна Романова. Они в то время работали в Третьяковке в отделе современного искусства, а мы у них брали интервью, после которого случился, по сути дела, их торжественный уход оттуда: их вызывали на ковер к директору из-за интервью нашему журналу.
Несмотря на ничтожный по нынешним меркам тираж, его было достаточно для всего сообщества современного искусства. Ещё, поскольку он был сделан на грант Сороса, нам нельзя было его продавать, и мы его дарили, то есть, он напрямую попадал ко всем, кто был нам нужен. К Лене Селиной, к Айдан Салаховой. Мы просто брали и звонили Павлу Пепперштейну или Юрию Никичу: «Хотим у тебя взять интервью». Приходили и брали у них интервью. Вот и все. Никакой сложности вообще не было. Виктор Мизиано как-то сказал мне, что дал нам лучшее свое интервью в роли куратора.
МИР: Как вы разделяли между собой задачи в работе над журналом «Комод»?
Конечно, редакционная коллегия — это были Наиля Аллахвердиева с Леной Крживицкой. Я делал дизайн и верстал все номера, и, конечно, временам сильно влиял на процесс, воображая себя серым кардиналом. Например, я говорил: «Слушайте, давайте принципиально не будем печатать скучные искусствоведческие тексты? У нас журнал должен быть обязательно иллюстрированный, в нем должны быть проекты художников». В ХЖ публиковались один или два проекта в начале и в конце журнала, а у нас проекты художников были даны после каждой статьи. Иллюстрирован он был интересно, хотя и был черно-белый. ХЖ в то время сдвигался в сторону академического письма в духе журнала Texte zur Kunst. Виктор [Мизиано] мне тогда на вопрос о том, почему в журнале так мало картинок, отвечал: «А вот ты видел картинки в Texte zur Kunst? Там вообще иллюстраций нет». Кроме того, уже тогда мы заметили, как критика в посвященной искусству журналистике стала сходить на нет. В ответ на этот процесс мы сделали журнал в журнале, приложение «Вкл/Выкл», где публиковали резкие критические статьи. Наш журнал был живой, в конце мы вели раздел хроники, причем локальной хроники художественной жизни Екатеринбурга.
МИР: Что происходило в Екатеринбурге в тот момент?
Во-первых, там были мы с Александром Шабуровым, и мы делали несколько совместных и персональных проектов. Во-вторых, там был очень большой центр притяжения — так называемая «Дача Елового». Это деревянный дом в самом центре города с садом. Это была неформальная база, резиденция. Если проезжали в город какие-нибудь иностранные художники с путешествующим проектом, они останавливались у Олега Елового. Помимо живописи Еловой делал очень много перформансов и всякого рода инсталляций как в помещениях, так и на улице. Была еще такая история. Там жили и делали выставки новосибирцы — будущие Синие Носы, и Еловой участвовал в их выставках и готовил свои персональные проекты. Собственно говоря, там мы и познакомились с Вячеславом Мизиным, Дмитрием Булныгиным, Константином Скотниковым, Александром Голиздриным. Саша Голиздрин организовал галерею Eurocon. Она существовала внутри Архитектурного института, но политика у галереи была странная. Там могла оказаться Алёна Озерная, с одной стороны, — это такой декоративный салон, стилизация, стремящаяся к абстрактности и символизму, «красивое искусство». А с другой стороны, там выставлялись Слава Мизин с Димой Булныгиным, Костя Скотников, сам Саша Голиздрин. Наиля Аллахвердиева и Лена Крживицкая, с которыми мы делали журнал, организовали группу «Засада Цеткин», причем заявляли её как «антифеминистскую». На самом деле она, конечно, феминистская была, но они настаивали на позициях диалога, а мужское их интересовало в той же степени, что и женское. Они не были радикалами. И в галерее они делали трогательные проекты. Перформанс «Теперь ты мой», например: в трех водах мыли морковки и потом их бережно вытирали мягкими банными полотенцами.
МИР: Кто кроме художников «круга Елового» повлияли на Вас?
Много кто. Ры Никонова, например, отвечавшая за весь мейл-арт в России. Еще до Перестройки она делала международный мейл-артистский журнал, и я участвовал в одном из номеров. Ры Никонова и Сергей Сигей, апостолы так называемой Уктусской школы, — это художники, члены оформительской секции СХ, радикальные авангардисты, которые сформировались в 70-е. Это были абсолютно концептуалистские художники, например, один из них, Валерий Дьяченко, сделал картину «Чье это облако?» ещё в 1967 году (тогда Кабаков еще не был концептуалистом и в своих работах занимался совсем другими проблемами: внутренний свет, белизна, «закартинное пространство», то есть, находился под сильным влиянием Владимира Вайсберга).
В этой компании самым важным и для меня, и для Саши Шабурова был Евгений Арбенев: его культура работы и его мышление оказали на нас значительное влияние. Всякий раз, когда мы с ним общались, происходили сильные сдвиги. Он начинал говорить о необычных для художника вещах, как раз об органике, естественности появления художественного жеста — это, кстати говоря, очень сильно влияет на меня и сейчас. Арбенев начал вести дневники, когда врачи сообщили, что его мама скоро умрет. Он решил вести дневники, чтобы не забыть, чтобы запомнить всё, каждый свой день. Это много-много дневников. В результате мама не умерла, оказалось, что диагноз ложный, хотя тогда ей отводили 3 года, и он 3 года вел свои дневники. Он сам говорит: «Я посмотрел [на дневники] и понял, что то, что я сделал, это искусство, абсолютно концептуальная вещь». Год назад я начал вести дневник, пишу каждый день и испытываю схожие прозрения. Для него естественно было отказаться от нарратива, создавать искусство, в котором нет «смысла», нет «содержания» в привычном передвижническом понимании, и идею смыслового разрыва я услышал от него. Тогда для меня это была очень крутая идея, революционная. Нас-то учили всех, что искусство должно быть со смыслом, должен быть нарратив. Куда без него?
В этой компании самым важным и для меня, и для Саши Шабурова был Евгений Арбенев: его культура работы и его мышление оказали на нас значительное влияние. Всякий раз, когда мы с ним общались, происходили сильные сдвиги. Он начинал говорить о необычных для художника вещах, как раз об органике, естественности появления художественного жеста — это, кстати говоря, очень сильно влияет на меня и сейчас. Арбенев начал вести дневники, когда врачи сообщили, что его мама скоро умрет. Он решил вести дневники, чтобы не забыть, чтобы запомнить всё, каждый свой день. Это много-много дневников. В результате мама не умерла, оказалось, что диагноз ложный, хотя тогда ей отводили 3 года, и он 3 года вел свои дневники. Он сам говорит: «Я посмотрел [на дневники] и понял, что то, что я сделал, это искусство, абсолютно концептуальная вещь». Год назад я начал вести дневник, пишу каждый день и испытываю схожие прозрения. Для него естественно было отказаться от нарратива, создавать искусство, в котором нет «смысла», нет «содержания» в привычном передвижническом понимании, и идею смыслового разрыва я услышал от него. Тогда для меня это была очень крутая идея, революционная. Нас-то учили всех, что искусство должно быть со смыслом, должен быть нарратив. Куда без него?
Часть III: Международные проекты
МИР: Были ли у вас международные кураторские проекты?
Да, конечно. У нас были очень плотные контакты с CEC ArtsLink, американской организацией. Они ратуют за мир и дружбу между Америкой и Россией и обеспечивают культурные обмены. Они оплачивали американским художникам проезд, проживание, а мы их принимали, помогали им реализовывать проекты, собирали публику на их лекции и воркшопы. Так мы показали в Екатеринбурге потрясающего фотографа Аллена Фрейма, видео-художников Нейла Голдберга и Ким Суджа, уличных художников использующих новые медиа Эвана Рота из Graffiti Research Lab и Джейсона Эппинка, и звезду стрит-арта Марка Дженкинса.
Был еще голландский проект Фестиваль современного искусства Нидерландов в Екатеринбурге, мы курировали изобразительную часть фестиваля. Тогда у нас были дружеские отношения с медиа-куратором Татьяной Горючевой из Москвы, сейчас она замужем за Эриком Клюйтенбергом, с которым они как раз делали этот проект. Назывался он «Дебаты и кредиты» (2002), медиаискусство в общественных пространствах. И вот он как раз стал ключевым.
Был еще голландский проект Фестиваль современного искусства Нидерландов в Екатеринбурге, мы курировали изобразительную часть фестиваля. Тогда у нас были дружеские отношения с медиа-куратором Татьяной Горючевой из Москвы, сейчас она замужем за Эриком Клюйтенбергом, с которым они как раз делали этот проект. Назывался он «Дебаты и кредиты» (2002), медиаискусство в общественных пространствах. И вот он как раз стал ключевым.
МИР: Ключевым в каком плане?
Паблик-арт и медиа арт в одном флаконе, вернее, в рамках одного проекта. Я монументалист по образованию, я люблю масштаб и высказывания в общественных пространствах. Наиля заканчивала Шанинку в Академии народного хозяйства с паблик-арт проектом — видео билборды с современным искусством на Транссибирской магистрали, и здесь мы сошлись абсолютно идеально. В Екатеринбурге тогда был только один видео-билборд, один городской экран с очень плохой цветопередачей, но зато гигантский. В рамках фестиваля мы договорились о том, что мы будем показывать на нем радикальный голландский видео-арт. Одна работа в течение одного часа в ночное время. В программе была абстрактная анимация, или что-то супер скучное для обывателя. Например, видео-камера привязывается к бильярдному кию, и дальше в течение часа этой конструкцией играют в бильярд. Интересная картинка получается.
Вот, кстати говоря, это был первый раз, когда мы курировали медиа-искусство, а не были просто его зрителями как когда-то в TV-галерее. Мы выбирали работы, организовывали показы, подготавливали видео к трансляции.
В рамках «Дебатов и кредитов» была выполнена гигантская мозаика из облицовочной плитки на одном из зданий Уральского государственного университета. Тут органически начал формироваться интерес к междисциплинарности. Мозаика была пиксельная. Художник Арно Кунен делал эскиз в Амстердаме, пересылал его нам по интернету с четкой разметкой, и в Екатеринбурге обычные облицовщики реализовывали это на стене. В целом, вышел такой медиа-глюк в реальности, потому что это сильно пикселированное изображение низкого разрешения в реальной среде. По тем временам это было очень необычно и ново. Это была, кстати говоря, первая работа иностранного художника в общественных пространствах в России после Перестройки. До Перестройки я знаю всего 2-3 сюжета: Фернан Леже и Надя Леже что-то делали в Москве, какие-то заказы были в 1960-е-70-е годы, и пара итальянцев делали керамические панно для московского метро. И всё.
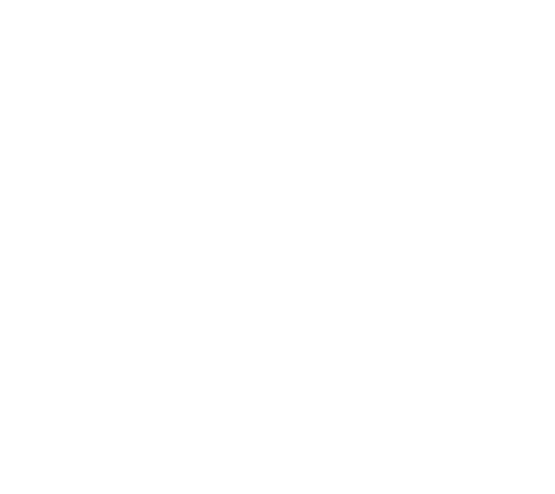
Мозаика художника Арно Кунена "Наблюдатели" на здании УрГУ (2002)
В рамках фестиваля было очень много разных проектов и по масштабу, и по принципам использования новых медиа. Кроме того, первый раз мы видели настоящий виджеинг — сведение видеоканалов. Еще один интересный проект — «позитивные зеркала» Лео Ван Мюнстера с надписями «Ты прекрасен», «Я вижу тебя». Эти зеркала мы размещали на центральной улице на здании кинотеатра, на Главпочтамте, в Музее молодежи, в кафе, в университете. Эрик Клюйтенберг шутил, что современное искусство — это лубрикант для плавного вхождения голландского бизнеса на территорию России. И поскольку это действительно было так, все было открыто. Все было можно. Мы только говорили: а можно? — и нам отвечали: хорошо, давайте согласуем, и сделаем, без вопросов. Мы относительно легко договаривались с владельцами магазинов, кинотеатров, директорами образовательных учреждений, рекламными фирмами, потому что все очень хотели, чтобы голландцы пришли со своим бизнесом, со своей культурой.
МИР: Расскажите, пожалуйста, о вашей интервенции в метрополитен в рамках проекта «Дебаты и кредиты». Это была инсталляция в метро. Как она была сделана?
Инсталляция называлась «Активатор» того же Лео Ван Мюнстера. Это был угрожающе выглядящий ящик похожий на бомбу. Когда вы проходите мимо него, в нем срабатывает датчик и проигрывается небольшой музыкальный фрагмент гимна России. То есть в честь каждого, кто сходил с эскалатора, играл гимн, как для официального лица, когда оно сходит по трапу самолета в аэропорту Внуково или Шереметьево.
Часть IV: «Длинные истории Екатеринбурга»
МИР: Как появились «Длинные истории Екатеринбурга», один из самых крупных проектов, осуществленных в ГЦСИ? Как формировалась программа, какие у Вас как куратора были приоритеты? Как туда попало технологическое искусство?
Важно рассказать предысторию. Я из интересной семьи. Моя мама — художник-модельер, а отец — ученый-программист. Он занимался компьютерами с того момента, как они появились в СССР — это были «шкафы» в гигантских залах, информация в них обрабатывалась неделями (в наши дни такие задачи смартфон решает за считанные секунды). Для меня очень естественно соединять планирование, аналитическое мышление и творчество. То есть, определенная дисциплина, которую мне передал отец, как я теперь понял, вылилась в то, что я стал все и везде организовывать. Я считаю, что ничего большого нельзя сделать как следует, если ты действуешь хаотично и ничего не планируешь, не рассчитываешь, не продумываешь алгоритмы — это вот папино слово. Алгоритм решения задачи — это важная штука. Как куратор я строю «машин», создание проекта для меня — это настройка «машины». Все операции, которые можно автоматизировать и перевести в регулярную рутину, я превращаю в четкие алгоритмы. Это, видимо, моя сильная сторона. Даже когда я преподавал 10 лет в художественной школе, у меня дети никогда не получали двойки. Почему? Потому что я продумывал задачи так, чтобы они их решили. Я специально ставил натюрморт таким образом, чтобы его можно было написать тремя красками. То есть, если ты осваиваешь технологию, ты не сможешь не сделать как следует. Всегда, когда я делал задачки для учеников и теперь для студентов, я ставлю перед собой цель сделать это так, чтобы они выполнили задачу в любом случае. Этот же принцип мы применили в наших проектах. И это было с самого начала, как только мы организовали ГЦСИ. Первый же проект был «машиной» по сбору материала, которая и легла в основу «Длинных историй».
МИР: Расскажите о вашем первом проекте в ГЦСИ.
Проект назывался «Агитация за искусство» (2000). В то время в Екатеринбурге стены домов, гаражей, фонарные столбы и заборы были сплошь заклеены дешевой несанкционированной уличной рекламой, напечатанной в одну-две краски на ризографе: рекламировались публичные дома, какие-то секты и сомнительные предложения заработать. Я собирал коллекцию такого типографического примитива, а Саша Шабуров придумал в его духе делать свои графические листы: он на компьютере делал себе рекламу в эстетике этих заборных объявлений. Когда мы открыли Екатеринбургский филиал ГЦСИ, по причине отсутствия бюджета на выставки и выставочного пространства мы решили начать проектом, легитимирующим и рекламирующим современное искусство.
Мы решили использовать не только эстетику и технологию печати уличной рекламы, но и стратегии её появления в городе: пиратскую, несанкционированную расклейку в тех же местах, где бытовала эта реклама. Через интернет мы заказывали художникам и в России, и за рубежом афиши, пропагандирующие современное искусство. В ответ на open-call мы получили очень много остроумных и неожиданных работ.
МИР: Как вы отбирали заявки?
Мы рассылали всем знакомым художникам и на специализированные сайты по искусству приглашения и entry-form, то есть заявочные анкеты, где были очень четко расписаны содержательные и технические требования к проектам. Были выработаны четкие критерии. Во-первых, это должна была быть реклама. У нас была формальная константа — плакат, в котором менялось название и автор, то есть, имелся шаблон-рамка, в которую вставляется сообщение художника. Во-вторых, очень четкое содержательное требование: мы рассказываем, чем современное искусство прекрасно, чем оно хорошо, почему оно полезно — буквально так мы это и расписали. В-третьих, реклама, естественно, должна быть оригинальной, неожиданной и странной. В итоге мы набрали гигантское количество таких работ, и наша агитация, рекламная кампания современного искусства работала: о нас узнали. В нашем офисе стала появляться молодежь, и мы легко набрали волонтеров. После этого проекта нам было легче устанавливать контакт с актуальными художниками.
Еще очень важно отметить, что «Агитация за искусство» — это машина, которая вскоре стала работать через сайт Марата Гельмана gif.ru. Мы не просто рассылали форму всем своим знакомым художникам, ее можно было скачать на сайте, существовала страница проекта, реклама на других разделах сайта, баннеры в сети — все было технологизировано с самого начала, и по тем временам так делали далеко не все кураторы. Собственно говоря, это и стало моделью. Мы увидели, что это работает, и по этому принципу мы стали организовывать все остальные наши проекты. Другое дело, что у нас был один главный минус: мы плохо считали все, что касалось финансов. Мы никогда не закладывали достаточно денег на то, чтобы сделать финальную часть, а именно: отчет для художников и каталоги, рассылку каталогов — это была главная трудность. Денег было всегда мало, и их еле хватало на то, чтобы сделать сам проект. Мы думали: «Ну, потом, может быть, мы где-нибудь наберем». И это была главная ошибка. Каталог «Агитации за искусство» мы сделали, потому что это было дешево, и мы заложили бюджет, все хорошо посчитали, и все вышло. Каталог первых «Длинных историй» мы тоже сделали. На следующие «Длинные истории» бюджет сократили, и уже на каталоги у нас денег не хватило.
Еще очень важно отметить, что «Агитация за искусство» — это машина, которая вскоре стала работать через сайт Марата Гельмана gif.ru. Мы не просто рассылали форму всем своим знакомым художникам, ее можно было скачать на сайте, существовала страница проекта, реклама на других разделах сайта, баннеры в сети — все было технологизировано с самого начала, и по тем временам так делали далеко не все кураторы. Собственно говоря, это и стало моделью. Мы увидели, что это работает, и по этому принципу мы стали организовывать все остальные наши проекты. Другое дело, что у нас был один главный минус: мы плохо считали все, что касалось финансов. Мы никогда не закладывали достаточно денег на то, чтобы сделать финальную часть, а именно: отчет для художников и каталоги, рассылку каталогов — это была главная трудность. Денег было всегда мало, и их еле хватало на то, чтобы сделать сам проект. Мы думали: «Ну, потом, может быть, мы где-нибудь наберем». И это была главная ошибка. Каталог «Агитации за искусство» мы сделали, потому что это было дешево, и мы заложили бюджет, все хорошо посчитали, и все вышло. Каталог первых «Длинных историй» мы тоже сделали. На следующие «Длинные истории» бюджет сократили, и уже на каталоги у нас денег не хватило.
МИР: Как же появились «Длинные истории Екатеринбурга»?
После «Агитации за искусство» мы сделали проект «Ареал: искусство в общественных пространствах». В нем было немало замечательных проектов. Например, Володя Логутов сделал медиа-объект «Связь без границ»: телефонный аппарат, а если поднять трубку, то слышно, как булькающим голосом читают сказку о Садко. Телефон был поставлен на набережной реки Исеть, и его провод уходил под воду.
В целом, идея проекта состояла в том, чтобы художники использовали для взаимодействия с городской средой разные рекламные носители. Не просто стрит-арт, а интеграция искусства в информационную инфраструктуру. Мы опробовали взаимодействие с разными рекламными носителями: баннерами, билбордами, лайт-боксами. Мы самостоятельно покрасили в желтый цвет один забор, и все, что было рядом с ним: деревья, траву. Мы внедряли объекты в кафе. Важно было «сцепиться» со спецификой пространства и с ней провзаимодействовать. Это был "взлом” городского пространства в безопасном режиме, потому что мы заранее договаривались о размещении арт-объектов с рекламными компаниями и районными администрациями.
«Ареал» прорекламировал нас как людей, которые понимают, как работать с городской средой. Через некоторое время к нам пришли люди из МКУ «Столица Урала»: «Слушайте, у нас в городе заборы некрасивые, давайте детские рисунки переводить на бетонные заборы. Вы же художников знаете, найдите тех, кто нам поможет детские рисунки увеличить и перенести на забор». Мы ответили: «Нам нужно подумать, кажется, что у вас какая-то странная идея, что-то там не клеится». Я помню, что я лежу в полупрострации, в полудреме, и вдруг у меня возникает идея: секции заборов — это рамки для кадров комиксов. Комиксы — рисованные истории… заборы — длинные… О! «Длинные истории» на заборах. Естественно, мы сделали презентацию и просто им сказали, что использовать детей — это последнее дело, и потом, вы не скроете, что это сделали взрослые, и получится фальшь на фальши, это не будет работать, это просто способ освоить деньги. Давайте, мы вам сделаем событие. Люди приедут, будет об этом разговор, это будут истории. А заборы действительно очень длинные: в среднем, метров 40-60. (Правда, в Перми еще длиннее: там и по 120, и по 200, и 800 метров были) — и в самом центре, и отвратительные. Они загажены объявлениями, рекламой выборов, мусорным граффити.
В целом, идея проекта состояла в том, чтобы художники использовали для взаимодействия с городской средой разные рекламные носители. Не просто стрит-арт, а интеграция искусства в информационную инфраструктуру. Мы опробовали взаимодействие с разными рекламными носителями: баннерами, билбордами, лайт-боксами. Мы самостоятельно покрасили в желтый цвет один забор, и все, что было рядом с ним: деревья, траву. Мы внедряли объекты в кафе. Важно было «сцепиться» со спецификой пространства и с ней провзаимодействовать. Это был "взлом” городского пространства в безопасном режиме, потому что мы заранее договаривались о размещении арт-объектов с рекламными компаниями и районными администрациями.
«Ареал» прорекламировал нас как людей, которые понимают, как работать с городской средой. Через некоторое время к нам пришли люди из МКУ «Столица Урала»: «Слушайте, у нас в городе заборы некрасивые, давайте детские рисунки переводить на бетонные заборы. Вы же художников знаете, найдите тех, кто нам поможет детские рисунки увеличить и перенести на забор». Мы ответили: «Нам нужно подумать, кажется, что у вас какая-то странная идея, что-то там не клеится». Я помню, что я лежу в полупрострации, в полудреме, и вдруг у меня возникает идея: секции заборов — это рамки для кадров комиксов. Комиксы — рисованные истории… заборы — длинные… О! «Длинные истории» на заборах. Естественно, мы сделали презентацию и просто им сказали, что использовать детей — это последнее дело, и потом, вы не скроете, что это сделали взрослые, и получится фальшь на фальши, это не будет работать, это просто способ освоить деньги. Давайте, мы вам сделаем событие. Люди приедут, будет об этом разговор, это будут истории. А заборы действительно очень длинные: в среднем, метров 40-60. (Правда, в Перми еще длиннее: там и по 120, и по 200, и 800 метров были) — и в самом центре, и отвратительные. Они загажены объявлениями, рекламой выборов, мусорным граффити.
МИР: Визуальная помойка.
Да, просто за пределами добра и зла. Итак, город дал нам денег, и тогда идея для первого фестиваля была очень простая. Мы говорим «Длинные истории Екатеринбурга», а подразумеваем «Длинные истории для Екатеринбурга», мы не делаем истории про Екатеринбург, мы делаем для. Мы приглашали художников, уже тогда очень известных — например Ольга и Александр Флоренские, Гоша Острецов.
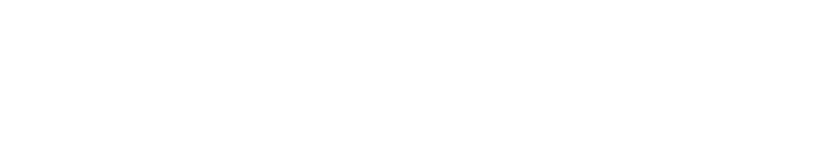
Павел Шугуров. «Я улыбаюсь Уралу – Урал улыбается мне», 2004. Источник изображения: Длинные Истории Екатеринбурга
Наша кураторская работа состояла в том, чтобы распределить проекты, предложенные художниками, в какие-то правильные места, чтобы происходила сцепка пространства с содержанием. Например, группе «Куда бегут собаки» с их проектом про нефть мы назначили забор недалеко от Геологического института и станции метро Геологическая.
Мы заявляли тему и говорили, что заборы разные, поэтому нам нужно прислать не окончательную версию, а 10 секций. Мы отбирали и одновременно назначали художникам забор, и они дорабатывали проект под ту длину, которая им выпадала.
МИР: В рамках фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга» в 2005 году в Доме ученых состоялась лекция «Роботы от-кутюр» Дмитрия Булатова. Как длинные истории сошли с заборов?
Идея принадлежала Наиле. На самом же деле мы занимались легитимацией современного искусства, буквально легитимацией, потому что по советским канонам оно было вне закона. Плюс, очень сильно перетянули на себя одеяло «ужасные дети» — Бренер, Мавроматти, Кулик, создав искусству дурную медийную репутацию. Ни Кабаков, ни Пивоваров, ни Юликов, ни Стучебрюков не появлялись в газетах и на телевидении — никто из тех, кто занимался сущностными вещами. На телевидении мелькали ньюсмейкеры: московские акционисты. В Екатеринбурге это был Саша Голиздрин, который был неким дайджестом этого направления: он все эти стратегии в себе собирал и их транслировал. А для нас было очевидно, что на самом деле современное искусство — это не только акционизм, и акционизм — это далеко не все искусство, если не сказать меньшая его часть.
МИР: То есть вы хотели вывести эту скрытую часть из музея, из галереи, из мастерской в пространство города?
Ситуация была еще хуже. Никаких музеев, никаких галерей. В том-то все и дело. В музее современное искусство время от времени показывается, но не покупается. Очень редко что-то появлялось, но это были какие-то эксцессы, которые точно так же вызывали огромное количество вопросов, бурную и не совсем адекватную критику, потому что они ничем интеллектуально не были обеспечены. Выставка сделана, но в ней какие-то вздорные тексты, публику не готовят, с журналистами никто не разговаривает. В результате журналисты несут какую-то чушь, и она транслируется в голову людям. Галереи современного искусства в Екатеринбурге, по-моему, и сейчас-то немногочисленные, их там две или три, а тогда их просто не было. Галерея Eurocon в 90-е — это не совсем галерея. Это междусобойчик, потому что для того, чтобы в галерею попасть, нужно пройти через проходную, а значит, иметь пропуск. Если на открытие выставки к тебе придут люди, ты будешь стоять на проходной и лично всех пропускать. Это было отнюдь не самое доступное место, чтобы смотреть искусство.
Мы, во-первых, хотели открыть искусство зрителю, во-вторых, показать его диапазоны: что, кроме акционизма, вообще может быть. Но мы, кстати говоря, акционизм в «Длинные истории» включали: группа Арт-Террор открывали свой забор и устроили брейкданс баттл. Дальше у нас так и повелось, что один забор обязательно открывается с какой-нибудь акцией. «Куда бегут собаки» один раз жгли нефть, когда у них была история про нефть. В другой раз они показывали свой медиа-объект «Оцифровка воды». Нам было интересно показать, как это работает, какая связь существует между цифрами на длинном заборе и водой. На открытии в режиме реального времени аппарат распечатывал ряды цифр, нули и единицы, в зависимости от того, в какую сторону отклонялись чашечки со стекающей водой. Чашечки могут отклоняться в две стороны, но периодичность и «полярность» отклонений предсказать невозможно. Тем не менее, очень занятно, что на распечатке были видны внутренние ритмы, возникали паттерны. Это было само по себе интересно.
Кроме того, мне нравилась метафора: забор располагался рядом с рекой. Вот река Исеть, ты видишь течение воды, затем оно превращается в поток цифр и фиксируется на поверхности забора. Это потрясающий поэтический жест. Такой романтики в отношении с технологиями я больше нигде у русских художников не видел. У всех — Шульгина, Чернышова, даже VTOL’a — прагматический подход, и поэтическое возникает только в политическом или социальном регистре. А вот такая почти японская поэзия: вышел и среагировал на механизм как на пейзаж, — такого я не встречал. Сейчас, наверное, очень много молодых художников, и среди них есть техно-поэтические люди, но в то время «Куда бегут собаки» были единственными. Они начинали с идеи о том, что мы относимся к машинам без души, небрежно, утилитарно, ведь техника неживая. КБС воплощали собой новый гуманизм: механизмы вам служат, они живут свою жизнь, и это был сдвиг парадигмы и мышления. Не инструментальное мышление, а вот такое поэтическое и очень человеческое. Невероятно круто. И они эту линию продолжают: в их версии искусства между природой и технологиями нет противоречия.
Мы, во-первых, хотели открыть искусство зрителю, во-вторых, показать его диапазоны: что, кроме акционизма, вообще может быть. Но мы, кстати говоря, акционизм в «Длинные истории» включали: группа Арт-Террор открывали свой забор и устроили брейкданс баттл. Дальше у нас так и повелось, что один забор обязательно открывается с какой-нибудь акцией. «Куда бегут собаки» один раз жгли нефть, когда у них была история про нефть. В другой раз они показывали свой медиа-объект «Оцифровка воды». Нам было интересно показать, как это работает, какая связь существует между цифрами на длинном заборе и водой. На открытии в режиме реального времени аппарат распечатывал ряды цифр, нули и единицы, в зависимости от того, в какую сторону отклонялись чашечки со стекающей водой. Чашечки могут отклоняться в две стороны, но периодичность и «полярность» отклонений предсказать невозможно. Тем не менее, очень занятно, что на распечатке были видны внутренние ритмы, возникали паттерны. Это было само по себе интересно.
Кроме того, мне нравилась метафора: забор располагался рядом с рекой. Вот река Исеть, ты видишь течение воды, затем оно превращается в поток цифр и фиксируется на поверхности забора. Это потрясающий поэтический жест. Такой романтики в отношении с технологиями я больше нигде у русских художников не видел. У всех — Шульгина, Чернышова, даже VTOL’a — прагматический подход, и поэтическое возникает только в политическом или социальном регистре. А вот такая почти японская поэзия: вышел и среагировал на механизм как на пейзаж, — такого я не встречал. Сейчас, наверное, очень много молодых художников, и среди них есть техно-поэтические люди, но в то время «Куда бегут собаки» были единственными. Они начинали с идеи о том, что мы относимся к машинам без души, небрежно, утилитарно, ведь техника неживая. КБС воплощали собой новый гуманизм: механизмы вам служат, они живут свою жизнь, и это был сдвиг парадигмы и мышления. Не инструментальное мышление, а вот такое поэтическое и очень человеческое. Невероятно круто. И они эту линию продолжают: в их версии искусства между природой и технологиями нет противоречия.
МИР: Связано ли появление в вашем проекте «Куда бегут собаки» с лекцией Булатова, или это вообще разного порядка вещи?
Я думаю, это происходило параллельно. Конечно, все привозные лекторы так или иначе очень влиятельны. Мы организовали своего рода просветительскую программу. Началась она с того, что нам были нужны волонтеры. А волонтерам нужно чем-то отплатить. Нам было стыдно их бесплатно эксплуатировать, самое главное, бесплатно — это значит, что они могут прийти, а могут не прийти. Поэтому мы, во-первых, решили, что мы будем как минимум кормить волонтеров. Это раз. А второе, чтобы им было по-настоящему интересно, и ради этого на самом деле затевался фестиваль: чтобы люди были не просто исполнителями, а чтобы они получали свое: встречи с художниками, общение с ними, лекции и мастер-классы, которвые они проводят. Это и был их главный интерес, ради этого они и шли нам помогать.
Лекция Булатова была одной из таких лекций для волонтеров. «Куда бегут собаки» — сами по себе. Я думаю, что, возможно, они были на этой лекции, но уже изначально их интересовала технология. Мы их сразу же заметили, они начали с нами контактировать, ведь они карьеристы в хорошем смысле. Они всегда тут же начинают знакомиться со всеми важными людьми. А начинали они как оформители и зарабатывали долгое время интерьерами, и пытались выйти в другие сферы, например, выполнить оформление для вечеринок. У нас был кинотеатр «Салют». Его арт-директор, очень хитрый и ловкий парень, позвал их сделать что-то прикольное, чтобы не просто люди пришли посмотреть кино и потанцевать, но чтобы что-то еще было в зале. И они показали довольные резкие вещи: мясорубка, красной краской измазанная, с электроприводом, вращюшим ручку из-за чего она двигалась по полу как раненное животное. Холодильник, где они в банках мариновали джинсы, дверцу можно было открывать и смотреть. Мы, естественно, звали их во все наши затеи. Мне кажется, «Длинные истории» сформировали n-ое количество художников, потому что так или иначе многие прошли через проект либо как авторы, либо как волонтеры.
Лекция Булатова была одной из таких лекций для волонтеров. «Куда бегут собаки» — сами по себе. Я думаю, что, возможно, они были на этой лекции, но уже изначально их интересовала технология. Мы их сразу же заметили, они начали с нами контактировать, ведь они карьеристы в хорошем смысле. Они всегда тут же начинают знакомиться со всеми важными людьми. А начинали они как оформители и зарабатывали долгое время интерьерами, и пытались выйти в другие сферы, например, выполнить оформление для вечеринок. У нас был кинотеатр «Салют». Его арт-директор, очень хитрый и ловкий парень, позвал их сделать что-то прикольное, чтобы не просто люди пришли посмотреть кино и потанцевать, но чтобы что-то еще было в зале. И они показали довольные резкие вещи: мясорубка, красной краской измазанная, с электроприводом, вращюшим ручку из-за чего она двигалась по полу как раненное животное. Холодильник, где они в банках мариновали джинсы, дверцу можно было открывать и смотреть. Мы, естественно, звали их во все наши затеи. Мне кажется, «Длинные истории» сформировали n-ое количество художников, потому что так или иначе многие прошли через проект либо как авторы, либо как волонтеры.
МИР: Вы воспитали новое поколение работающих с городским пространством художников, но изначально такой просветительской цели не было, вы ведь просто откликнулись на инициативу от муниципалитета?
Нет, мы сразу же задумали проект как фестиваль. Как раз наоборот, потом вся эта просветительская часть схлопнулась. Мы планировали, что художники приезжают, читают про себя лекции, устраивают мастер-классы. Так на первом фестивале и было. Потом администрация сократила бюджет, а задачи и масштабы остались те же. Нам пришлось делать программу, которая называлась «Вкл/Выкл» — от имени журнала в журнале «Комод»: я специально читал лекции, и все художники, приезжавшие за счет CEC ArtsLink или благодаря другим оказиям, читали у нас лекции. В рамках «Вкл/Выкл» сформировался клуб волонтеров. Таким образом, с осени до весны раз в неделю читались лекции, устраивались обсуждения или встречи с приезжими художниками.
МИР: Клуб существовал исключительно на волонтерских началах?
Да, это было мое личное волонтерство. Я просто понимал, что мне это надо. Идея фестивалей была в том, чтобы выращивать собственных художников, а не возить их из-за рубежа или из Москвы и Питера, на что денег просто не было. В Москве проекты были успешными, а филиалы ГЦСИ в регионах для ведения выставочной деятельности искали спонсоров. Если спонсоры не находились, бюджета хватало только на организационные расходы.
Часть V: Современное искусство Урала и задачи актуального искусства
МИР: Вы, в противоположность ГЦСИ, ориентировались на воспитание, на активизацию местных художественных сил. Проявляется ли в работах уральских художников специфичное влияние места в котором они живут?
Что вы имеете в виду? Понимание? Есть ли у художников понимание того, что они высказываются в специфичных пространствах, как это пространство на них влияет?
МИР: К примеру, упомянутые Вами «Куда бегут собаки» предложили проект о нефти, о геологии Урала. Это был сайт-специфичный проект?
Разработка локальных сюжетов — это как раз часто добавочная и временами излишняя штука внутри понятия сайт-специфики.
Сайт-специфичность для меня — это в первую очередь работа с физическим пространством, со спецификой физического пространства, со спецификой архитектурной, видовыми аспектами пространства. Такая сайт-специфичность для меня существенна, а сайт-специфичность концептуальная — это опциональная вещь, которой может не быть.
Пространство само по себе на самом деле нейтрально, условно говоря, в нем нет концептуальной специфики, нет исторического бэкграунда, человек наделяет его концептуальной специфичностью в своем уме, и это общественный консенсус. Кроме того, на мой взгляд, концептуальная сайт-специфичность вне воплощения через пластику, через визуальность, номинативна. Я часто сталкиваюсь с тем, что это лишь спекуляция. То, что художник остроумно среагировал на какую-то концептуальную проблематику, — это половина дела, если не четверть. А вот сделать так, чтобы люди чувствовали и осознавали связь с пространством через материальное воплощение — непросто. Я отговариваю всех, кого только могу, от нарративных подходов, потому что в этом ошибиться, оступиться и сделать дрянь — пара пустяков. Удачи могу перечислить по пальцам. В Берлине Даниэль Либескинд хорошо сделал мемориал гомосексуалам — жертвам нацизма. И тут еще вот ведь какая сложность: острые темы или этнологическая сайт-специфичность требуют не только высокой самодисциплины, но и соответствия множеству внешних требований. Например, многим кажется, что по поводу Холокоста не-евреи высказываться не могут. Мало того, даже к художникам-евреям предъявляются особые требования. Условно говоря: твой ли это опыт, опыт твоей семьи, который буквально тебе транслирован? Или же это рассказы, и на самом деле ни твоя семья, ни ты этого не переживал? Чуть только не то, и это сразу становится видно.
МИР: Легко сфальшивить.
Да. Более того, это обоюдоострая проблема. Одновременно и для художника очень вредно, если в отношении недостатков его работы на острую тему все промолчат и не скажут ему, что он сделал фальшивку. Ввязываясь, он точно не получит искренних оценок, он получит только официальные. Если у человека нет внутренней самодисциплины, если ему нечего сказать, то он просто рушит себя, потому что явно берется за то, что ему не по плечу. Это очень опасно, поэтому я студентам говорю: ребята, вот табуированные темы, я вам не запрещаю с ними работать, но делайте это, только если вам есть что сказать, и давайте тогда об этом поговорим. Если вам хочется просто кого-то шокировать — нет. Вы не добьетесь своей цели, вы просто сделаете дерьмо.
МИР: Если не браться за остросоциальные темы. Допустим, Урал — это индустриальный регион, это глубокий тыл, противопоставленный передовой столице. При этом Урал — это природные богатства. Оставляет ли такая специфика отпечаток на современных художниках, или современное искусство универсально?
Все, что вы сейчас перечисляете, это стереотипы и значит заказ, политика, идеология. Это к искусству отношения не имеет, по большому счету. Отражается ли уральская специфика на людях? Конечно, отражается. Но это отражение нужно всякий раз внимательно исследовать, изучать, и оно ведь всякий раз очень разное. Я наблюдаю пермских художников, отчасти так или иначе я нахожусь в контакте с ижевскими художниками, я немножко знаю уфимских художников. К сожалению, я уже выключился из процесса коммуникации с Екатеринбургом: хотя я туда езжу, кажется, что контакты потеряны, там все как-то само по себе двигается. Мы в городе запустили очень много всяких процессов, и они там развиваются очень по-разному.
МИР: Давайте вспомним об вашем образовательном проекте, школе «АртПолитика», затронувшем Екатеринбург и Пермь.
Я вырастил n-ое количество художников — в Перми больше, в Екатеринбурге меньше. В Екатеринбурге, собственно говоря, только Тимофей Радя из всей АртПолитики по-настоящему известный художник. Вообще же, из АртПолитики очень много хороших художников работают сейчас в Перми. Елена Слобцева, я думаю, станет звездой, но у нее очень медленный путь восхождения, потому что она не занимается политикой, она занимается сущностными вещами. Я вообще выступаю за сущностное искусство, для меня образцами являются Рэйчел Уайтрид, Энтони Гормли, Аниш Капур — художники, которые занимаются сущностным, а не сиюминутным. Куратор Петр Белый, много работающий с петербургской галереей «Люда», говорит о пермской «серебристости». Это особая утонченность, сухость, работа в основном не с цветом, а с тоном, с фактурой, и в этом для него состоит пермская специфичность. Я с ним, может быть, соглашусь, но, с другой стороны, я могу тут же назвать и огромное количество ярких, цветных художников из Перми, которые абсолютно никакого отношения [к серебристости] не имеют. Есть «серебристый» тренд у художников в Перми, есть некоторое количество очень серебристых художников, но не все. Наверное, это связано с природой: на Урале вся природа серая, приглушенная. Я не вижу прямой связи с промышленностью. В Екатеринбурге тоже. Скорее, урбанизм, и Екатеринбург в этом смысле стильный город, поэтому там в большей мере проявляются общемировые тренды.
Можно найти оттенки «этничности» у ижевцев. Это группа «Археоптерикс» и художники в ее орбите. Так или иначе, в их работах есть земля, деревья, дух паганизма. У них в Удмуртии до сих пор используют в дохристианских капищах проводят ритуалы. Распространено поклонение женщине, когда мать главная в семье, и так далее. Такие явления накладывают отпечаток, но он проявляется весьма и весьма опосредованно. Я бы не сказал, что, условно говоря, транслируются какие-то идеологемы, скорее, это видно на уровне переживания материала, или появляется в орнаментальности. Однако, в любом регионе вы найдете то же самое. Я против всяческого национализма, и я не вижу особой разницы даже между Таиландом и Украиной. В смысле, храмовая архитектура, например, везде одна и та же, специфика орнаментальности меняется, но их объединяет крестовая структура, купола: Индия, Таиланд, Италия. Посмотрим на вышивку: крестом вышивают везде. То же самое верно в отношении звериного стиля. Да, в Грузии он немножко отличается от пермского, а в Норвегии он еще чуть-чуть другой, но принципы формообразования везде одни и те же. И везде один и тот же материал — бронза.
Можно найти оттенки «этничности» у ижевцев. Это группа «Археоптерикс» и художники в ее орбите. Так или иначе, в их работах есть земля, деревья, дух паганизма. У них в Удмуртии до сих пор используют в дохристианских капищах проводят ритуалы. Распространено поклонение женщине, когда мать главная в семье, и так далее. Такие явления накладывают отпечаток, но он проявляется весьма и весьма опосредованно. Я бы не сказал, что, условно говоря, транслируются какие-то идеологемы, скорее, это видно на уровне переживания материала, или появляется в орнаментальности. Однако, в любом регионе вы найдете то же самое. Я против всяческого национализма, и я не вижу особой разницы даже между Таиландом и Украиной. В смысле, храмовая архитектура, например, везде одна и та же, специфика орнаментальности меняется, но их объединяет крестовая структура, купола: Индия, Таиланд, Италия. Посмотрим на вышивку: крестом вышивают везде. То же самое верно в отношении звериного стиля. Да, в Грузии он немножко отличается от пермского, а в Норвегии он еще чуть-чуть другой, но принципы формообразования везде одни и те же. И везде один и тот же материал — бронза.
МИР: У вас был большой проект, фестиваль видео-арта в общественных пространствах Outvideo, и мне в нем видится сочетание, с одной стороны, паблик-арта, ориентированного на широкие массы, потому что это городские экраны, а с другой стороны, на этих экранах демонстрируется очень сложный концептуальный видео-арт. Искусство для вас элитарно, или искусство — для всех? Медиа — это средство или тоже сущностная вещь?
Для меня медиа-специфичность — очень важный аспект, но у меня нет пиетета перед новыми медиа. Когда человек берет тот или иной медиум, он должен в нем разбираться и использовать его специфику по делу, уместно, сообразно задачам проекта. И не подавлять эту специфику, а направлять ее, как энергию, куда надо. Я прошел слишком много этапов, которые для меня подтверждают, что любого рода «расизм медиума» — то же, что и расизм или социальный, государственный национализм. В самый первый раз, когда я столкнулся с новыми медиа, у меня к ним было слегка расистское отношение: «Все занимаются живописью и перформансами, а я буду сейчас заниматься видео, это обеспечит гарантированный интерес, потому что видео — новая вещь, перформансы уже все много раз видели, все эти концептуальные инсталляции — это уже общее место, а вот видео — это свежее, сейчас публика будет это смотреть, и давай-ка я в это дело включусь».
Первое, на что я напоролся: медиа требуют гораздо больше времени, чем живопись и рисование, а выхлоп гораздо более странный, потому что такое искусство технически зависимо. Нужны экраны, нужна техника, чтобы все это показывать. Но самое главное, как только я обратил внимание, что появился новый тренд — видео, тут же это заметил не только я, все стали делать видео. И разве то, что я взялся делать видео, гарантирует, что я не сделаю дерьмо? Нет. Я просто взял другой медиум, вот и все. То же было с перформансом, паблик артом, потом пришла очередь стрит-арта. Думаешь, наконец-то, вот стрит-арт — настоящее искусство, настоящие художники, они сами платят за возможность высказаться, и все у меня заранее получили презумпцию невиновности. Все они гениальные, просто потому что они герои, они выходят на улицу. Потом глядишь: да нет, все опять то же самое. Зависть, коммерческие поползновения. В общем, весь диапазон недостатков, на которые я указывал художникам, сидящим в мастерских, все то же самое оказывается у стрит-артистов. И та же самая история, когда мы курировали паблик-арт. Мы тогда активно общались с Генри Кендаллом, долгое время работавшим куратором паблик-арт программы подземки в Нью-Йорке. Весь паблик арт в подземке — это Кендалл. В определенный момент, когда я получаю очередной журнал Public Art Review, мы листаем его вместе и обсуждаем: «Что-то мне не нравится», — говорю я. И Кендалл отвечает: «Ты знаешь, как и в любых других сферах искусства, хороших проектов в паблик-арте 8-10% ну максимум 20%, достойных вещей, остальное — дерьмо”. Так буквально и сказал: «And 80% is shit».
Первое, на что я напоролся: медиа требуют гораздо больше времени, чем живопись и рисование, а выхлоп гораздо более странный, потому что такое искусство технически зависимо. Нужны экраны, нужна техника, чтобы все это показывать. Но самое главное, как только я обратил внимание, что появился новый тренд — видео, тут же это заметил не только я, все стали делать видео. И разве то, что я взялся делать видео, гарантирует, что я не сделаю дерьмо? Нет. Я просто взял другой медиум, вот и все. То же было с перформансом, паблик артом, потом пришла очередь стрит-арта. Думаешь, наконец-то, вот стрит-арт — настоящее искусство, настоящие художники, они сами платят за возможность высказаться, и все у меня заранее получили презумпцию невиновности. Все они гениальные, просто потому что они герои, они выходят на улицу. Потом глядишь: да нет, все опять то же самое. Зависть, коммерческие поползновения. В общем, весь диапазон недостатков, на которые я указывал художникам, сидящим в мастерских, все то же самое оказывается у стрит-артистов. И та же самая история, когда мы курировали паблик-арт. Мы тогда активно общались с Генри Кендаллом, долгое время работавшим куратором паблик-арт программы подземки в Нью-Йорке. Весь паблик арт в подземке — это Кендалл. В определенный момент, когда я получаю очередной журнал Public Art Review, мы листаем его вместе и обсуждаем: «Что-то мне не нравится», — говорю я. И Кендалл отвечает: «Ты знаешь, как и в любых других сферах искусства, хороших проектов в паблик-арте 8-10% ну максимум 20%, достойных вещей, остальное — дерьмо”. Так буквально и сказал: «And 80% is shit».
МИР: Каков ваш критерий оценки: хорошее искусство — плохое искусство, успешный проект — неуспешный проект? И коррелирует ли хорошее искусство и успешность?
Хорошее искусство и успешность коррелируют, безусловно. Откровенное дерьмо не может быть успешным. Абсолютно точно. Я в это верю.
На чистом пиаре нельзя сделать успеха. Работа должна быть сделана, художник должен существовать, художник должен действовать на протяжении долгого времени. И он должен делать что-то за пределами традиции: общеизвестного, общедоступного и так далее. Тогда у него есть шанс на успех.
Теперь, может ли великий художник остаться неизвестным? Может, если захочет. Легко. Если человек не хочет заниматься своим продвижением, ему хорошо с самим собой — да, вполне. Огромное количество художников-аутсайдеров — такие. Для меня, например, Генри Даргер просто фантастический художник, а открыли его случайно, он работал киномехаником и не собирался кому либо показывать свое творчество. И вообще, когда я аутсайдеров смотрю, думаю: что-то художники-профессионалы заигрались в моду, в тенденции, в тренды и всякую прочую ерунду, слишком увлечены деньгами, и кажется, что в них очень мало искренности, силы и нет мощного высказывания. Аутсайдеры защищены от этого своим сумасшествием.
Далее, мы можем рассмотреть диапазон: Адольф Вельфли — хороший художник, а какой-нибудь Пупкин — не очень. Это определяется на глаз, скорее всего, это консенсус. Причем хитрый консенсус, то есть, с одной стороны консенсус специалистов, а с другой стороны, после консенсуса специалистов появляются пути публичного признания. Специалисты видят: да, это круто. Они могут сделать так, чтобы это стало доступно публике. Так произошло и с Леонардо, и с Ван Гогом. В смысле, да, Леонардо — великий, гениальный художник, но об этом нам нужно было рассказать. «Джоконда» — это не то чтобы надувной пузырь, но это явно работа, которая стала мемом, и то, что она считается самой великой — это странно, потому что на самом деле непонятно, по каким критериям мы будем судить, что она великая. И вот тут мы как раз говорим о мемности. Условно говоря, иногда художник порождает мем, а мем — это вещь устойчивая. И она обеспечивает ему славу и величие. Мемность на сегодняшний день — это мощная штука. Есть, например, работа «Крик», и это мем. И она великая. А все остальное, что сделал Мунк, — как-то так. Или, например, есть Чарльз Энсор. Где у него великая работа? Все какие-то более или менее похожие, в смысле одинаковые. Но ты понимаешь — он великий художник. Именно потому, что он супер стабильно создает свой ни на что не похожий мир.
Далее, мы можем рассмотреть диапазон: Адольф Вельфли — хороший художник, а какой-нибудь Пупкин — не очень. Это определяется на глаз, скорее всего, это консенсус. Причем хитрый консенсус, то есть, с одной стороны консенсус специалистов, а с другой стороны, после консенсуса специалистов появляются пути публичного признания. Специалисты видят: да, это круто. Они могут сделать так, чтобы это стало доступно публике. Так произошло и с Леонардо, и с Ван Гогом. В смысле, да, Леонардо — великий, гениальный художник, но об этом нам нужно было рассказать. «Джоконда» — это не то чтобы надувной пузырь, но это явно работа, которая стала мемом, и то, что она считается самой великой — это странно, потому что на самом деле непонятно, по каким критериям мы будем судить, что она великая. И вот тут мы как раз говорим о мемности. Условно говоря, иногда художник порождает мем, а мем — это вещь устойчивая. И она обеспечивает ему славу и величие. Мемность на сегодняшний день — это мощная штука. Есть, например, работа «Крик», и это мем. И она великая. А все остальное, что сделал Мунк, — как-то так. Или, например, есть Чарльз Энсор. Где у него великая работа? Все какие-то более или менее похожие, в смысле одинаковые. Но ты понимаешь — он великий художник. Именно потому, что он супер стабильно создает свой ни на что не похожий мир.
МИР: Вы упомянули слово «мода». Технологическое искусство, искусство междисциплинарное, которое соединяет науку и технологии — это искусство будущего, как говорит Дмитрий Булатов, или это мода, или это жанр?
Мы с Дмитрием Булатовым дружим и постоянно пикируемся, но на самом деле говорим об одном и том же, только с разных сторон. Если внимательно посмотреть на его доклады и послушать, что он говорит, что он показывает, то станет ясно, что он только на словах фанат этих новых медиа. На деле же он разбирается с сущностными вопросами. Другое дело, его интересует медийный аспект и медиа-специфика, поэтому он сконцентрирован на этом сегменте искусства. Через него, через его специфику он лучше может рассказать о том, что такое сильное высказывание художника. Но далеко не всегда то, что он показывает, меня лично трогает. Точно также меня может не трогать живопись, но в ней может быть что-то очень интересное. С моей точки зрения, опять же, вспоминая Сапольского, это эволюция. Появляется медиа-искусство и добавляет сложности. Нельзя утверждать, что в живописи ничего уже нового не сделать, — это не так. Условно говоря, горшки на сегодняшний день в массовом порядке вручную не делаются, но,тем не менее, спрос на гончарные произведения есть. И, мало того, есть огромное количество художников, которые занимаются тем, что создают что-то на гончарном круге. И это искусство. Декоративное искусство очень высокого класса. Или, есть Грейсон Перри, который делает горшки как произведения концептуального искусства. Я не расист, пусть цветут все цветы, медиа искусство — это еще одно искусство, еще одна сфера, еще одна специфика, интересно в ней разбираться. Будущее за правильным выбором медиа, будущее за точностью и уместностью.
МИР: Это не контекстная реклама, не Интернет?
Нет. В данном случае для меня очень важен медиум. Интересна именно жесткая форма, вызов, который она формирует. И, кстати говоря, это мы придумали ограничение 30 секунд, не Инстаграм для сториз. Кроме того, видео должно было работать на экранах определенного разрешения, пониженного разрешения для уличных экранов. Сейчас это невозможно смотреть: всего 320 на 240 точек. Мне кажется, сейчас, наверное, надо просто изучать текущую ситуацию, то, как работает видео.
У нас была идея оставаться в формате рекламы. Мы наравне с рекламой, мы встраиваемся в рекламу, мы вклиниваемся в этот контекст, мы существуем как пауза внутри этого контекста.
Сейчас же возникает совершенно другой контекст, контекст идеологизации, когда ты едешь в московском метро и смотришь на экран, ты видишь, что тебе буквально промывают мозги, все инструменты настроены на то, чтобы абсолютно четко закладывать тебе в голову определенные концепты. Я не скажу, что они плохие или хорошие, но это пропаганда, и у меня есть ощущение, что дискурс свободы как бы исключен. Условно говоря, видео, которое невозможно использовать в пропагандистских целях, не может там появиться. Я воображаю: в Париже или в Копенгагене очень круто бы смотрелось. Да, экраны в подземных переходах. Это новая реальность, когда ты спускаешься по эскалатору, и тебя сопровождают не рекламные плакаты, а небольшие рекламные экраны прямо напротив твоего лица. На сегодняшний день просто появляются другие возможности: трансляция сразу же на много экранов, или растягивание по экранам одного изображения. Все это, конечно, интересно было бы попробовать.
МИР: И последний, наверное, завершающий вопрос о проектной функции искусства, которую Вы упоминаете в одной из своих лекций. Вы начали ее с Казимира Малевича: он обращался к современным ему научным концепциям и, таким образом, осуществлял акт предвидения через искусство. В современном поле Вы бы выделили подобные ему фигуры?
Все художники проектируют будущее. Можно, например, пойти по Триеннале в Гараже. Художники проектируют будущее. Другое дело, что сейчас немножко по-другому это все устроено. Они не проектируют общее будущее для всех, а создают модели для небольших сообществ. Мало того, эти модели еще перекрещиваются, накладываются друг на друга. Думаю, художники в новых медиа особенно хорошо понимают, что они занимаются «великим деланием». Они делают небольшие шаги, которые сменяют, корректируют точку зрения.
Глобальных художников по простоте и силе прозрения, как Малевич, сейчас, наверное, трудно найти, но каждый в своей области, все, кто занимается искусством серьезно, очень много чего меняют. Они совершают прозрения относительно того, как люди устроены и как выстраиваются отношения между людьми и отношения человека с миром в целом.
Когда Малевич написал свой «Черный квадрат», никто всерьез не мог оценить, что он такое сделал, хотя его влияние, авторитет — невероятный, просто гигантский, он повлиял не только на русских, но и на европейских художников. Ведь бинарность — это общее место, просто люди не осознавали до Малевича, что это корень. В принципе бинарность существовала всегда, бинарные оппозиции существовали всегда: счет на раз-два и так далее. Фокус вот в чем: его прозрение — это на самом деле сублимация всего предыдущего опыта. На самом деле, он просто его суммировал. Только его ли это заслуга? Это заслуга огромного количества людей, которые все это собирали, в том числе Федоров с его безумными идеями. И вот вдруг — раз, у человека сошлось, и он — хоп, и сделал. Надо понимать, что художники, в каком-то смысле просто визуализируют то, что существует, ведь известно, что идеи витают в воздухе. То есть, ты не сделал, а уловил. Нужно ли это сейчас? Иногда у меня бывает предчувствие относительно своих учеников, я говорю: «Вот оно, ты на очень правильном пути, и если ты будешь это делать как следует, это будет сильное высказывание». Сделаешь фундаментальное открытие. Что за открытие? Это предугадать невозможно.
МИР: То есть, это что-то вроде ноосферы: художник улавливает идеи из нее?
Пусть будет ноосфера, шикарная пафосная концепция. Но я себе воображаю так: идея существует, она живет между людьми, она их соединяет невидимо, как и множество других идей, и вот в какой-то момент она к тебе пришла в голову, но нельзя сказать, что это особенная твоя заслуга. Сделай, и будет круто. Не сделаешь — она придет к другому. Я просто это замечал: если я чего-то не делаю, это делают другие. В этом смысле можно быть спокойным: если ты берешь, стараешься и делаешь, то все хорошо, будет успех.
Материал подготовила Софья Абашева
Команда МИР выражает сердечную благодарность Елене Вениаминовне Баснер
за помощь в поиске рисунка П. Филонова, описанного в интервью
Напишите нам
Мы ответим в ближайшее время









